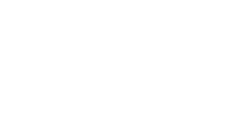В этом году праздник День труда приходился на второе сентября, и, как глубокомысленно отметила Джерри, это еще усугубило царящую у них в доме суматоху.
Миссис Кейдж осталась в Эванстоне, чтобы наблюдать за упаковкой вещей в городском доме. Эдис сама привела в порядок и заперла загородный дом в Висконсине, и, поскольку они не собирались продавать его по крайней мере в течение года, здесь и не возникло никаких особых проблем. Правда, через год этот вопрос возникнет снова, но сейчас Палмер радовался, что ему удалось отложить его до тех пор, когда у них все уже наладится. Несмотря на то что они с Эдис добросовестно потратили два уик-энда, изнывая от жары и духоты в поисках подходящего дома в пригороде по специально для них подготовленному отделом закладных ЮБТК списку, наиболее приемлемым оказался конфискованный особняк из бурого песчаника на Семидесятой улице недалеко от Пятой авеню. Стоимость такого особняка была более ста тысяч долларов, но Палмеру предоставлялась возможность купить его за полцены при условии, что эта сделка будет «нашей маленькой тайной», как выразился один из клерков отдела закладных ЮБТК.
Во время осмотра особняка его феноменальная дешевизна быстро утратила свой смысл, Палмеру стало ясно, что на ремонт и перестройку уйдет примерно столько же, сколько на его приобретение. Однако он все же решил купить этот дом и переехал вместе с семьей в небольшой отель, расположенный поблизости от особняка, с тем чтобы Эдис могла наблюдать за его перестройкой. Палмер устроил детей в школу Бентли и считал себя поистине счастливым, что такой серьезный вопрос был разрешен без особых затруднений.
— По крайней мере хоть в этом нам повезло,— сказал он как-то утром Эдис, после того как дети ушли в школу,— принимая во внимание, что все остальное — одни хлопоты и неприятности.
Небольшие глаза Эдис, обрамленные совсем бесцветными, едва различимыми ресницами, медленно оторвались от блокнота, в который она что- то записывала. Взгляд Эдис блуждал некоторое время между блокнотом и чашкой кофе, которую она держала в другой руке, а затем, как бы сфокусировавшись, остановился на лице Палмера, сидевшего за столом напротив нее.
— Я их просила не заваривать такой крепкий кофе,— сказала она неожиданно.— Мы, правда, оба любим черный кофе без сливок, но этот уже похож на густые чернила.— И затем, не делая никакой логической паузы, спросила:
— О каких это неприятностях ты говорил, дорогой?
— О крупных, разумеется. Таких, как слишком крепкий кофе, и тому подобных.
Она не очень громко, но все же достаточно красноречиво стукнула донышком своей чашки о блюдце.
— Ну, в чем я опять провинилась? — спросила она.
— Провинилась? — отозвался Палмер нарочито безразличным тоном.— Ни в чем.
— Что-то ведь вызвало эту утреннюю порцию сарказма.
Почему это она никак не выберет времени, чтобы с утра немного подвести глаза. Не успевает он уйти из дому, как она тут же начинает красить ресницы и накладывает тон на верхние веки, после чего глаза становятся гораздо выразительней. Если она способна делать это ради мастера и рабочих, перестраивающих их дом, ради швейцаров и горничных отеля и всех тех случайных людей, которых встречает днем, то почему же она не может сделать этого для собственного мужа, которого так мало видит?
— Не запачкан ли у меня лоб, что ты так на него смотришь, дорогой? — спросила Эдис.
— Нет. Прости, я просто задумался,— ответил он и быстро допил остатки кофе.— Как продвигаются столярные работы в доме?
— Говорят, что на две недели задерживается доставка фанеры. Все еще не получено разрешение на решетку фасада. По этому поводу в строительных законах существует какая-то неясность,— ответила Эдис.
— А что говорит архитектор?
— Утверждает, что в Детройте и Кливленде это разрешается делать.
— Ну, это уже легче,— резко бросил Палмер, вставая из-за стола.— Я еще позвоню Фисту в «Эмпайр плейвуд». Они проводят через нас свои банковские операции. Мак Бернс со своими обширными связями, вероятно, тоже может быть полезен в этом деле.
Эдис подлила себе в чашку еще немного черного кофе и задумчиво пила его маленькими глотками.— Интересно, есть ли на свете такие дела, каких этот белокурый Мак Бернс не в состоянии уладить?
Палмер уже уходил, но остановился и повернулся к ней. Утреннее солнце, светившее из окна за спиной Эдис, образовало вокруг ее головы как бы нимб из ее тонких золотистых волос.
— Для меня, дорогая, он сделает все. Но весь вопрос в том, что, черт побери, до сих пор он сделал для ЮБТК?
— Во всяком случае, он добился, чтобы наших детей приняли в школу Бентли после того, как давно прекратили прием на этот год,— возразила Эдис.
— Ну, это простейшая вещь для Бернса. К сожалению, ЮБТК держит его не для такого рода любезностей.
— Однако не стоит все же недооценивать эти любезности,— сказала Эдис.— Банк тоже заинтересован в том, чтобы дети первого вице-президента получили хорошее образование.
— Да, но не слишком ли дорого обходятся банку такие любезности? Насколько мне известно, он получает что-то около пятидесяти тысяч долларов в год,— бросил Палмер.
— И это все, что вы ему платите?
— Да, плюс представительские расходы.
— Но, дорогой, это ведь очень мало. Подумать только, что он нашел подрядчика, который за месяц сделал всю работу…
Взглянув на часы, Палмер обнаружил, что уже половина девятого. Он подошел к окну и выглянул на улицу. Одна из шестидесяти машин банка, изготовленных по особому заказу, ожидала своего пассажира, стоя во втором ряду автомобилей у тротуара рядом с входом в их отель.
— Эдис,— сказал Палмер, направляясь к выходу из столовой,— как бы мне хотелось, чтобы у тебя иногда появлялось чувство юмора.
— У меня превосходное чувство юмора! — крикнула она ему вдогонку.
Он взял зонт и шляпу из стенного шкафа в передней.
— Почему же ты не улыбнешься, когда говоришь такие вещи?
— А я иногда улыбаюсь,— сказала Эдис, идя за ним с чашкой недопитого кофе в руке.
Свободной рукой она поправила ему галстук. Убежденный, что завязал его вполне симметрично, Палмер твердо решил, как только сядет в машину, снова подвинуть узел галстука на место. В Чикаго можно было иногда забывать об этом, но здесь, в Нью-Йорке, такая небрежность была недопустима. Крепко целуя Эдис на прощание в щеку, Палмер сознавал, что пытается компенсировать отсутствие теплоты чисто механической интенсивностью действия.— Каковы наши планы на сегодня? — спросил он.
— Вечером идем смотреть пьесу Осборна.
Совершенно непроизвольно Палмер изобразил подражание звуку подступающей к горлу тошноты — излюбленный прием Джерри.— Обедаем в гостях?
— Да, так сейчас проще,— невозмутимо ответила Эдис.
— Я задержусь, и мне придется пожелать детям спокойной ночи по телефону.
— Боюсь, что именно так и будет, дорогой,— сказала она.— Всего хорошего.
— Пока.
Спускаясь вниз в лифте, Палмер живо представил себе, как Эдис, сидя в своем будуаре, педантично подкрашивает ресницы и особенно тщательно верхние веки. Он, вероятно, все же несправедлив к ней. Впрочем, все-таки он прав. Придя к этому выводу, Палмер уселся на заднее сиденье автомобиля, ожидавшего его у входа в гостиницу. Швейцар ловко захлопнул за ним дверцу автомобиля, и Палмер с удовлетворением отметил приятный звук каким-то особым образом щелкнувшего замка машины. Автомобиль уже отъехал от тротуара, а швейцар все еще стоял с поднятой рукой, и этот приветственный жест напоминал нечто среднее между приветствием, предписанным в американской армии, и дружеским салютом захмелевшего французского солдата.
— Доброе утро, сэр,— проговорил шофер.
Тембр большой машины — вот что теперь самое важное в защелкивающихся замках у дверцы автомобиля. Вставляющиеся сейчас в автомобильные замки приспособления так и назывались «тембром большой машины». Теперь эти приспособления вставляются даже в замки рядовых машин — «форда», «шевроле» и «плимута», и люди покупают эти машины только потому, что их дверцы, захлопываясь, издают точно такой же звук, как большие и дорогие автомобили. Боже, до чего же мы дошли, подумал Палмер.
— Доброе утро,— повторил шофер уже тихим глосом, не желая быть навязчивым на случай, если Палмер расслышал его первое приветствие и лишь дурное расположение духа помешало ему ответить.
— Доброе утро, Джимми.
Очистившееся от облаков небо посылало на землю косые золотистые снопы лучей октябрьского солнца, перебрасывая через улицы большие и теплые коричневые тени.
Утро было поистине чудесное, и Палмеру вдруг страшно захотелось почувствовать в себе хотя бы частичку воодушевления, чтобы его хоть немного взволновало сияющее великолепие этого утра, но он тут же подумал, что это не имеет решительно никакого значения.
Наше настроение, убеждал он самого себя,— это просто неизбежное зло, существующее лишь для того, чтобы его игнорировать и, если необходимо, подавлять, а то и вовсе преодолевать. Иначе будет совершенно невозможно заниматься серьезными делами. Для него всегда было непреложной истиной, что нельзя уступать настроению. Это ведь явление нематериального порядка, а потому оно иррационально. Жизнь же по своей сути всегда безнадежно материальна, и даже если ее рациональная основа не всегда проявляется вполне отчетливо, то по крайней мере она подчинена законам логики.
Именно на этом и основывалось одно из самых твердых убеждений его отца. Теперь оно стало также и его убеждением наряду с прочими глубоко коренящимися в нем принципами, например голосовать за кандидатов республиканской партии, не трогать основной капитал, носить белые рубашки и прочее. Все эти принципы, размышлял он, пока машина сворачивала на Пятую авеню, все-таки непреложно рациональны в своей основе.
Он немного передвинулся на сиденье, чтобы взглянуть на себя в зеркало, прикрепленное к ветровому стеклу шофера. Белизна воротничка была безупречна. Легким движением он восстановил положение галстука, сдвинутого немного в сторону рукой Эдис. И неожиданно почувствовал, что шофер старается преодолеть любопытство и не смотреть в зеркало, чтобы не нарушить этикет.
Палмер откинулся на спинку сиденья и бросил взгляд в окно машины. Затем он взял номер «Таймс», аккуратно положенный на сиденье рядом с ним. Просмотрев заголовки, он поморщился и снова бросил газету на сиденье, Все это становится просто невыносимым, подумал он. Начиная с работы, которую он должен будет выполнить совместно с Маком Бернсом, и кончая тем, что он не может даже побыть с детьми; теперь он видит их так редко и лишь урывками, по вечерам. Наконец, сама Эдис, вернее, сложившиеся между ними отношения.
Все утратило всякий смысл, говорил он себе, лишилось внутренней связи и, что хуже всего, с невероятной быстротой превращается в томительную, тошнотворную рутину. Но действительно ли этот процесс начался только теперь? А может быть, то, что он почувствовал сейчас, накапливалось годами еще в Чикаго, и переезд в Нью-Йорк, новый образ жизни и отрыв от привычного окружения только открыли ему глаза на то, что действительно происходило в его жизни?
До Нью-Йорка все было очень просто. Домашняя обстановка, поездки по утрам из Эванстона в Луп, деловую часть Чикаго, на работу в течение восемнадцати лет супружеской жизни.
Еще и до женитьбы Палмер каждое утро проделывал этот путь в город, за исключением тех лет, когда служил в армии во время войны. А по вечерам его неизменно ожидали все те же лица, комнаты, вечеринки, люди, кресла, окна, виды и разговоры, разговоры.
Такого рода привычные вещи, думал он, способны обволакивать плотной защитной оболочкой все существенное и важное. Вначале эта оболочка помогает не замечать очень важные вещи. Затем, когда оболочка из привычных людей, мест и вещей становится все более плотной, она не только заслоняет то, что погребено под ее покровами, но и дает возможность совсем забыть о существовании самого важного. Но так как то, что попало в тенета этой оболочки, и есть ты сам, подумал внезапно осознавший это Палмер, то неизбежно наступает смерть твоего «я». Место твоей личности занимает уже эта самая оболочка, на которую ты некогда смотрел как на защитную. Итак, ты кончаешь тем, что превращаешься в собственный саван. Палмер порывисто вздохнул, опять взял в руки «Таймс» и вновь проглядел те же заголовки, словно видел их впервые. Похоже, что кризис на Среднем Востоке миновал наиболее опасную стадию и приближался к своему разрешению. Палмер подумал о том, что сегодня утром на бирже в связи с этим непременно начнется горячка, продажа акций; после полудня курс на них, несомненно, начнет падать, а затем последует лихорадочная покупка акций, которая, однако, не сможет выровнять общий баланс этого дня. У Клиффа Мергендала, ведающего в ЮБТК ценными бумагами, сегодня наверняка будет тяжелый день.
Машина остановилась у гостиницы «Плаза» из-за образовавшейся там пробки в уличном движении. Палмер подумал, что в дальнейшем, по- видимому, все больше времени будет уходить на то, чтобы, торопясь куда-то, простаивать на месте из-за таких вот пробок.
Палмер нетерпеливо отшвырнул газету и тут же подумал, что шофер заметил это и, наверно, сообщит либо по телефону, либо другим способом, каким обычно втихомолку распространяются различные новости по банку, что Палмер нынче не в духе. Повернувшись к окну, он стал разглядывать фонтан в центре площади, у входа в «Плаза».
А в конце концов, почему бы и не превратиться в собственный саван? Это удобная, хотя и несколько надуманная формула жизни, которая, однако, по существу ничего не решает. По-видимому, вообще не может быть четкого решения проблем, возникших между ним, Эдис и детьми, потому что, черт побери, совершенно неясно, что же все-таки произошло?
— Сэр, вам что-нибудь угодно? — спросил шофер.
Потревоженный столь неожиданно, Палмер уставился шоферу в затылок и довольно резко спросил: — В чем дело?
— Вы что-то сказали, сэр?
— Разве? — удивился Палмер. Неужели я вслух проклинал свою жизнь? — подумал он. А что, собственно, я мог проклинать? Наверно, самого себя? Но только ли самого себя?
— Нет, нет. Ничего,— сказал он шоферу.
Затор разрядился, так как стоявший на углу полисмен, пропустив достаточное количество машин из поперечных улиц, по которым в центр города обычно направлялись люди из района Куинс, открыл на несколько секунд движение по Пятой авеню. «Кадиллак», в котором ехал Палмер, ринулся с места рывком, похожим на прыжок кролика, совсем как дешевые автомобили, и Палмера откинуло на спинку сиденья.
— Простите, сэр.
— Не беда, Джимми. Наверстывайте, не теряйтесь.
Шофер вежливо посмеялся, и Палмеру стало мучительно стыдно, что шофер вынужден притворяться, будто его начальник сказал что-то остроумное. Черт бы побрал все это вместе взятое, от души пожелал Палмер. И черт бы побрал лицемерное солнце этого несчастного утра.
Тут же, устыдившись, что так поддался настроению, Палмер выпрямился, поднял смятую газету и аккуратно ее разгладил, перед тем как снова водворить на место рядом с собой. Искупив таким образом грех своей эмоциональной вспышки, он стал смотреть в окно, слегка прищуривая глаза, в стремлении вобрать в себя немного солнечного света и чуточку приободриться.
В то время как машина стремительно приближалась к банку, Палмер представлял себе, как лучи солнца, падавшие все более вертикально по мере приближения к полудню, тяжелыми каскадами проникают сейчас сквозь стеклянную крышу, заполняя изнурительным зноем весь верхний этаж здания банка. Даже большие жалюзи под потолком его кабинета не в состоянии полностью оградить от этих ослепительных лучей.
О, если бы только можно было свести всю эту унылую внутреннюю опустошенность к обычной головной боли, подумал Палмер, тогда у меня были бы законные и понятные причины для того, чтобы так ненавидеть это утро. И какие-нибудь две таблетки аспирина могли привести все в норму. Но где же взять таблетки против болезни, которая теперь причиняла ему подлинные страдания? С этим немым вопросом он подъехал к главному входу. Выйдя из машины, Палмер поблагодарил шофера и отпер боковую дверь, ведущую в банк, собственным ключом.