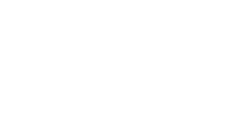1
Король потом рассказывал, что он открыл глаза и увидел перед собой солдата. Он не опознал форму, которая не принадлежала СС и совсем не была похожа на фольксштурмовскую, но также ничем не напоминала форму румынских, итальянских или французских контингентов, сражавшихся последние годы на стороне вермахта. И еще менее речь могла идти о русском. Он уже видел русских, либо пленных, либо приконченных оберштурмбанфюрером [Подполковник (прим. автора)] Хохрайнером, всегда готовым улучшить свой личный рекорд расстрелянных пулей в затылок мужчин, женщин и детей. (На 4 мая 1945 оберштурмбанфюрер насчитывал двести восемьдесят три уничтоженных выстрелом в затылок, и явная печаль появилась на его лице, когда он объявил Ребу, что он, Реб, станет его двести восемьдесят четвертой аналогичной жертвой, какое бы сожаление ни испытывали они оба, жившие вместе так нежно последние двадцать месяцев.)
Король рассказывал, что на самом деле он пришел в сознание за несколько минут до прихода солдата. Он не знал, за сколько. Это было какое-то медленное, постепенное выплывание из небытия, в первые секунды отмеченное открытием: еще живой. Затем появились, как бы последовательные этапы возвращения к полному сознанию: прежде всего последнее четкое воспоминание, оставшееся в его памяти, — воспоминание о оберштурмбанфюрере, на прощанье целующем его взасос, прежде чем приставить к затылку ствол люгера; далее смутное осознание своего положения заживо погребенного, с лицом почти на свежем воздухе, от которого его тем не менее отделял тонкий слой земли. И лишь после этого дала себя знать боль: боль, хотя и приглушенная, в основании черепа, а главное — боль во многих местах плеч, предплечий и даже на животе — всюду, где его коснулась негашеная известь. Он мог пошевелить лишь шеей и левой рукой. Все тело было словно переплетено с обнаженными трупами. Поперек, как бы полностью прикрывая его собой, лежал Заккариус, четырнадцатилетний литовец, которого оберштурмбанфюрер извлек из лагеря Гроссрозен, чтобы присоединить к своему гарему мальчиков.
Он пошевельнул шеей. Немного земли — и рука Заккариуса соскользнула: этого оказалось достаточно, чтобы он увидел солнце. Он не слышал, как подошел солдат. Он заметил его в ту секунду, когда того, стоящего к нему спиной, рвало. Он еще недостаточно ясно осознал происходящее, требовалось, чтобы он сблизил между собой этого блюющего человека в незнакомой форме и внезапное бегство вчера — если это действительно было вчера — из лагеря Маутхаузен оберштурмбанфюрера и его спецподразделения. Он не думал, что солдат может оказаться американцем. Просто он интуитивно чувствовал, что пришелец принадлежит к какому-то чужому миру. И по этой единственной причине он посчитал благоразумным не говорить по-немецки. Он выбрал среди других языков, которые знал, французский.
Он заговорил, и человек ему ответил, действительно подхватив наизусть стихотворение, которое машинально начал читать Реб; все происходило так, как если бы речь шла о давно условленном сигнале, о пароле, которым обменялись двое мужчин, до сих пор никогда не видевших друг друга, но призванных встретиться. Человек приблизился к могиле, опустился на колени, протянул руку и коснулся левой руки Реба. Произнеся несколько непонятных слов, он сразу же снова перешел на французский:
— Вы ранены?
— Да, — ответил Реб,
Он теперь отчетливо видел лицо солдата. Тот был очень молод, блондин с широко раскрытыми голубыми глазами. Что-то похожее на золотую звезду сверкало на вороте его рубахи. У солдата явно не было с собой оружия. Он спросил:
— Вы француз?
— Австриец, — ответил Реб.
Теперь человек пытался его вытащить, но безуспешно. Слой перемешанной с известью земли обвалился еще больше, обнажив белое тело Заккариуса; его ягодицы и спина были полностью сожжены негашеной известью.
«O’God!» [«O’God» (англ.) — О, Боже!] — воскликнул человек, и его снова стало рвать. Реб спросил в свой черед:
— А вы? Кто вы по национальности?
— Американец, — сказал молодой солдат. Он перестал икать. Ему удалось встать, а главное — выдержать поразительный взгляд серых глаз:
— Может быть, кроме вас, еще кто-нибудь уцелел…
— Не думаю, — сказал Реб. — Они всем стреляли в затылок.
Голос был необычайно медленным и спокойным. Он пошевелил левой рукой.
— Одному вам не удастся меня вытащить, — сказал Реб. — Я не лежу. Они похоронили меня почти стоя. Кто-нибудь еще есть с вами?
— Армия Соединенных Штатов, — ответил Дэвид Сеттиньяз, меньше всего на свете сознавая комичность собственного ответа и, во всяком случае, не имея ни малейшего намерения шутить. Спокойствие его собеседника пугало Дэвида и почти внушало ему страх. Но, сколь бы невероятным это ему ни казалось, Дэвиду почудилось, что он улавливает в его светлых зрачках веселый отблеск:
— В таком случае вы могли бы отправиться за помощью. Как ваша фамилия?
— Сеттиньяз. Дэвид Сеттиньяз. Мой отец француз. Тишина. Младший лейтенант застыл в нерешительности.
— Идите, — приказал Реб Климрод с какой-то необычной мягкостью. — Поторопитесь, пожалуйста. Мне очень трудно дышать. Спасибо, что пришли. Я не забуду.
Серый взгляд обладал фантастической пронзительностью.
2
Дэвид Сеттиньяз вернулся с Блэкстоком, врачом и двумя пехотинцами. Блэксток сфотографировал могилу. Эти снимки ни разу не публиковались, даже не использовались ни в одном досье. Зато тринадцать лет спустя Король выкупил их у Роя Блэкстока и его супруги.
Блэксток высказал мнение, что если парень выжил, то не только благодаря поразительному стечению обстоятельств. Судя по положению тела Реба Климрода в могиле, он в первые секунды своего погребения, еще находясь в бессознательном состоянии, начал свой адский путь на поверхность. Он проложил его через трупы восьми своих спутников с тем большими трудностями, что оказался в числе первых, брошенных в могилу, а ее поверхность эсэсовцы утоптали сапогами, прежде чем засыпать негашеной известью, а затем землей.
В могиле лежало девять трупов мальчиков в возрасте от двенадцати до семнадцати лет; Реб Климрод был самым старшим и единственным, кто еще жил.
Он снова потерял сознание, когда его наконец вытащили из этого месива. Сеттиньяз был потрясен ростом подростка — он насчитал шесть футов, то есть метр восемьдесят — и его худобой — он счел, что тот весит сто фунтов.
У Реба извлекли из затылка, за левым ухом, пулю от пистолета. Пуля чуть-чуть срезала внутреннюю мочку, пробила основание затылочной части головы и порвала шейные мышцы под затылком, лишь задев позвонки. Другие раны в конце концов оказались более серьезными и, без сомнения, более болезненными. В парне сидело еще две пули, которые пришлось извлекать: одна — в правой ляжке, другая — над бедром; от негашеной извести на теле были ожоги местах в тридцати; наконец, на спине, пояснице и в паху бросались в глаза следы от сотен ударов хлыстом и ожогов от сигарет; сотни шрамов были старые, более чем годичной давности. В итоге нетронутым оказалось одно лицо.
В течение последующих дней он спал почти не просыпаясь. В лагере произошел инцидент. Делегация бывших заключенных пришла жаловаться Стрэчену от имени, как говорили входившие в ее состав, всех своих товарищей: они отказывались жить вместе с «милочком эсэсовца». Употребленное ими слово было гораздо грубее. Это требование оставило каменно-спокойным маленького рыжего майора из штата Нью-Мексико; у него были другие заботы: в Маутхаузене ежедневно продолжали умирать сотни людей. По поводу судьбы парня он вызвал Сеттиньяза:
— Без вас, похоже, тот малыш умрет. Займитесь им.
— Я даже не знаю его фамилии.
— Это ваша проблема, — возразил Стрэчен высоким, резким голосом. — Начиная с этой минуты. Выпутывайтесь сами.
Это происходило утром 7 мая. Сеттиньяз велел перенести парня в барак, где собрали капо, чья судьба еще не была решена. Дэвид злился на себя. Сама мысль о какой-либо виновности юного незнакомца возмущала его. Он три раза навещал его, лишь раз застав бодрствующим, хотел его расспросить, но вместо ответа встретил лишь странный, серьезный и мечтательный взгляд.
— Вы узнаете меня? Я вытащил вас из могилы… Ответа нет.
— Мне хотелось бы узнать вашу фамилию. Ответа нет.
— Вы сказали, что вы австриец, вам, без сомнения, надо сообщить своей семье. Ответа нет.
— Где вы выучили французский? Ответа нет.
— Я ведь только хочу вам помочь… Парень закрыл глаза, повернулся лицом к стенке. На другой день, 8 мая, из Мюнхена в одно время с сообщением о капитуляции Германии прибыл капитан Таррас.
Джордж Таррас был из Джорджии, но родился не в американском штате, а в Грузии. В Гарварде Сеттиньязу подтвердили, что Таррас — русский аристократ, чья семья эмигрировала в США в 1918 году. В 1945 году ему было сорок четыре года, и он явно считая главной своей задачей убедить как можно больше обитателей планеты Земля совсем не принимать его всерьез. Он обладал отвращением к сентиментальной чувствительности, естественной (или, во всяком случае, превосходно наигранной) невозмутимостью перед самыми крайними проявлениями человеческой глупости; с его уст постоянно была готова сорваться злая шутка. Кроме английского, он бегло говорил на десятке языков, в том числе на немецком, французском, польском, русском, итальянском и испанском.
Первая его забота по вступлении в должность в Маутхаузене свелась к тому, чтобы увешать стены своего кабинета подборкой самых жутких фотографий, снятых Блэкстоком в Дахау и Маутхаузене: «По крайней мере, когда мы будем допрашивать этих господ, которые станут нести нам чушь, мы сможем ткнуть их носом в результаты их забавных проделок».
Он с жестоким задором закрыл несколько дел, которые начал готовит Сеттиньяз, лично проводя допросы…
— Все это мелкая сошка, студент Сеттиньяз. Что еще? Сеттиньяз рассказал ему о заживо погребенном мальчике.
— И нам даже неизвестна его фамилия?
Сведения, что могли собрать насчет юного незнакомца, были совсем незначительными. Он не значился ни в одном немецком списке, не входил ни в один из эшелонов, прибывавших в лагерь в последние месяцы 1944-го или первые месяцы 1945 года, в тот момент, когда начали свозить в Германию и Австрию десятки тысяч заключенных, так как советские качали наступление. И — это подтверждали многие, свидетельства — он находился в Маутхаузене самое большее три-четыре месяца.
Таррас улыбнулся:
— История кажется мне совершенно ясной: офицеры СС высокого ранга — один офицер не мог бы нуждаться в девяти юных любовниках, если только он не сверхчеловек — отступили в Австрию, чтобы держать здесь оборону до смертельного конца. Итак, они добираются до Маутхаузена, добровольно усиливают здесь гарнизон, но ввиду приближения нашей седьмой армии снова вынуждены отступать, на сей раз в направлении гор, Сирии, даже тропиков. Но предварительно с заботой о порядке, характеризующей эту великолепную расу, тщательно засыпав с помощью лопат, негашеной извести и земли бывших избранников своего сердца, отныне ставших обузой.
В Гарварде какой-то читатель Гоголя наградил Тарраса кличкой Бульба, вполне, впрочем, обоснованной. Ничуть на это не сердясь, он гордился кличкой до такой степени, что подписывал ею журнальные статьи, даже свои замечания в конце экзаменационных сочинений.
Сквозь очки в золотой оправе его живые глаза бегали по ужасам, развешанным на стене:
— Разумеется, мой маленький Дэвид, мы можем, отложив все остальное, заинтересоваться вашим юным протеже. В общем, мы ведь располагаем всего лишь несколькими сотнями тысяч военных преступников, которые лихорадочно ожидают проявлений нашего участия. Это пустяк. Не говоря о тех миллионах мужчин, женщин и детей, что уже умерли, умирают или умрут.
У него был вкус к эффектным концовкам к садистская потребность сарказмом затыкать рот любому собеседнику. Тем не менее рассказ о юном австрийце его заинтересовал. Через два дня, 10 мая, он впервые навестил мальчика. С капо, которые находились в бараке, он говорил на русском, немецком, польское, венгерском. Лишь однажды он бросил на незнакомца быстрый взгляд.
Для него этого было достаточно.
На самом деле Таррас испытал то же чувство, что и Дэвид Сеттиньяз. С одной существенной разницей: если он и был точно так же потрясен, то знал почему. Он обнаружил прямо-таки поразительное сходство глаз чудом уцелевшего с глазами человека, с которым он обменялся несколькими фразами в Принстоне на завтраке у Альберта Эйнштейна, — физика Роберта Оппенгеймера. Те же светлые зрачки при столь же бездонной глубине, погруженные в какую-то душевную грезу, непостижимую для простых смертных. Та же тайна, тот же гений…
«И это при том, что малышу самое большое восемнадцать или девятнадцать лет…»
Последующие дни Джордж Таррас и Дэвид Сеттиньяз посвятили задаче, которая и привела их в Маутхаузен. Много времени у них отнимала работа полицейских, проводящих расследования по доносу. Они старались составить список всех тех, кто, занимая различные должности, нес ответственность за функционирование лагеря. И, составив этот список, снабдить его свидетельскими показаниями. что должны были быть использованы позднее в военном суде, рассматривающем, в частности, военные преступления в Дахау и Маутхаузене. Много бывших надзирателей лагеря в Верхней Австрии при приближении американских войск ограничились тем, что искали укрытия в ближайших окрестностях без особых мер предосторожности, сохраняя свои настоящие фамилии, прикрываясь доблестью повиновения — Befehl ist Befehl [Befehl ist Befehl (нем.) — приказ есть приказ], — которая для них оправдывала все. Из-за нехватки средств и персонала Таррас нанял на работу бывших заключенных. В том числе прошедшего через множество лагерей еврейского архитектора Симона Визенталя.
Спустя некоторое время по настоянию Дэвида Сеттиньяза (по крайней мере такой предлог он предоставил самому себе) Таррас снова подумал о заживо похороненном мальчике, чьей фамилии он по-прежнему не знал. Маленькая делегация заключенных, приходившая протестовать по его поводу к майору Стрэчену, больше не показывалась, и, кстати, трое из ее самых пылких членов — французские евреи — покинули лагерь, уехав домой. Так что выдвинутые ими обвинения отпали почти сами собой. Однако было заведено дело, достаточное для принятия мер.
Таррас решил сам провести допрос. Много лет спустя, встретив, но в совершенно других обстоятельствах, устремленный на него взгляд Реба Климрода, он, должно быть, вспомнил то впечатление, какое оставила у него та первая встреча.
3
Мальчик теперь мог ходить, даже перестал хромать. Он если и не пополнел — слово это было бы нелепым в применении к уцелевшему подобным образом человеку, — то хотя бы приобрел какой никакой цвет лица и, несомненно, прибавил несколько килограммов. Таррас подумал, что он должен весить фунтов сто.
— Мы можем говорить по-немецки, — сказал он.
Серый, цвета бледного ириса взгляд погрузился в глаза американца, потом, с нарочитой медлительностью, окинул комнату:
— Это ваш кабинет?
Он говорил по-немецки. Таррас кивнул. Он испытывал странное, близкое к робости чувство, и это совсем новое ощущение его забавляло.
— Раньше, — сказал мальчик, — здесь был кабинет командира СС.
— И вы довольно часто сюда заходили. Мальчик рассматривал фотографии на стене. Сделав несколько шагов, он подошел к снимкам поближе:
— А где сделаны другие?
— В Дахау, — ответил Таррас. — Это в Баварии. Как вас зовут?
Молчание. Мальчик теперь был позади него, по-прежнему внимательно рассматривая фото.
«Он это делает нарочно, — внезапно догадался Таррас. — Он отказался сесть напротив меня и теперь хочет заставить меня обернуться; таков его способ дать мне понять, что он намерен вести эту беседу по своему усмотрению».
Ну ладно. Он тихо сказал:
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Климрод. Реб Михаэль Климрод.
— Родились в Австрии?
— В Вене.
— Когда?
— 18 сентября 1928 года.
— Климрод не еврейская фамилия, насколько я знаю.
— Фамилия матери была Ицкович.
— Значит, Halbjude, [Halbjude (нем) — полуеврей согласно нацистской терминологии (прим, автора).] — сказал Таррас, который уже установил связь двух имен — одного христианского, а другого, Реб, очень распространенного в еврейских семьях, особенно в Польше,
Молчание. Мальчик снова пришел в движение, идя вдоль стены, пройдя позади Тарраса, которого он обогнул, появившись вновь в поле зрения американца слева от него. Он двигался очень медленно, подолгу задерживаясь перед каждым фото.
Таррас слегка повернул голову и заметил тогда, что ноги у мальчика дрожат. В следующую секунду Тарраса охватило волнующее чувство жалости: «Этот несчастный мальчонка едва на ногах держится!» Он видел Реба Климрода со спины, его голые ноги в солдатских ботинках без шнурков, которые были ему малы, смехотворно короткие брюки и рубашку, болтающиеся на этом изможденном, нескладном, тысячи раз корчившемся под пытками теле, которое все-таки благодаря силе воли ни на миллиметр не утратило своей гордой стройности. Таррас также обратил внимание на длинные и тонкие руки, их кожа была усеяна потемневшими пятнами от ожогов сигаретами и негашеной известью; они безвольно висели вдоль тела, и Таррас по опыту знал, что за этой кажущейся небрежностью скрывается умение владеть собой, на которое способны очень немногие — и он сам в первую очередь — взрослые мужчины.
В эту минуту он еще лучше понял то, что так сильно поразило молодого Сеттиньяза: у Реба Михаэля Климрода была какая-то странная, необъяснимая аура.
Таррас вернулся к допросу, словно в спасительное убежище:
Когда и каким образом вы прибыли в Маутхаузен?
— В феврале этого года. В какой именно день — не знаю. В начале февраля.
Голос его был уже серьезным и очень медленным.
— Вместе с эшелоном?
— Нет, не с эшелоном.
— Кто был с вами?
— Другие мальчики, которых похоронили заодно со мной.
— Кто-то же доставил вас сюда?
— Офицеры СС.
— Сколько их было?
— Десять.
— Кто ими командовал?
— Оберштурмбанфюрер.
— Как его звали?
Реб Климрод теперь находился в левом углу комнаты. На уровне его лица висело увеличенное фото Роя Блэкстока, на котором была изображена открытая дверца кремационной печи; вспышка осветила слепящей белизной наполовину обуглившиеся трупы.
— Фамилий я не знаю, — ответил Реб Климрод очень спокойно.
Одна его рука пошевелилась, поднялась кверху. Длинные пальцы коснулись глянцевой бумаги снимка и, казалось, почти ласкали его. Потом он повернулся, прислонился к стене. Он был невозмутим, устремив безразличный взгляд в пустоту. Его волосы, начавшие отрастать, оказались темно-каштановыми.
— По какому праву вы задаете мне эти вопросы? Только потому, что вы американец и выиграли войну?
«Силы небесные!» — подумал Таррас, сбитый с толку и на сей раз неспособный возразить.
— Я не считаю себя побежденным Соединенными Штатами Америки, — продолжал Реб Климрод тем же отрешенным голосом. — Я действительно не считаю, что кем-либо побежден…
Его глаза устремились на маленький шкаф, в который, рядом с кучами папок. Таррас поставил несколько книг. «Да ведь он разглядывает книги…»
— Когда мы прибыли сюда в начале февраля, — сказал Реб Климрод, — нас везли из Бухенвальда. До Бухенвальда нас было двадцать три мальчика, но пятерых сожгли в Бухенвальде, а двое других умерли по пути оттуда в Маутхаузен. Офицеры, которым мы служили женщинами, пристрелили этих двоих в грузовике, и я схоронил их. Они больше не могли идти, они все время плакали, и у них выпали зубы, что уродовало их. Одному из них было девять лет, а другой был чуть постарше, наверное, лет одиннадцати. Офицеры ехали в легковой машине, а мы на грузовике, но время от времени они заставляли нас высаживаться и идти, иногда бежать, держа нас на веревках, наброшенных нам на шею. Это чтобы лишить нас сил и самой мысли о побеге.
Он слегка отодвинулся от стены, на которую опирался, помогая себе небольшим нажатием рук. Он рассматривал книги с каким-то почти гипнотическим напряжением. Но тем не менее продолжал рассказывать, подобно тому — показалось Таррасу, — как учитель излагает свой урок, сосредоточив все свое внимание на птице за окном, с той же отрешенной и словно безразличной интонацией:
— Но до Бухенвальда, куда мы приехали перед самым Новым годом, мы некоторое время оставались в Хемнице. До Хемница мы были в лагере Гроссрозен. До Гроссрозена мы находились в лагере Плешев, это в Польше, недалеко от Кракова; было это летом.
Он совсем оторвался от стены и начал очень медленно продвигаться к маленькому шкафу.
— Но мы пробыли всего три месяца в Плешеве, где почти все мальчики умерли от голода. Их фамилий я не знаю. До Плешева мы очень долго шли через леса… Нет, сперва мы оказались в Пшемысле… хотя до и после мы шли очень долго. Мы шли из лагеря в Яновке. Я был дважды в Яновке. Последний раз в мае прошлого года, а до этого еще раз в 1941 году, когда мне было двенадцать с половиной лет.
У него была любопытная манера рассказывать. Он выкладывал свои воспоминания начиная с конца, подобно тому как наматывают на катушку пленку. Он сделал еще три шага и оказался прямо перед книгами, от которых его отделяло одно стекло.
— Это ваши книги?
— Да, — ответил Таррас.
— Второй раз я попал в лагерь в Яновке из Белжеца. Именно в Белжеце 17 июля 1942 года погибли моя мать Ханна Ицкович и моя сестра Мина. Я видел, как они умирали. Их сожгли заживо. Скажите, пожалуйста, могу ли я открыть шкаф и потрогать книги?
— Да, — ответил совершенно подавленный Таррас.
— Моей сестре Мине было девять лет. Я абсолютно уверен, что она была жива, когда ее сжигали. Моя другая сестра, Катарина, родилась в двадцать шестом году, она была старше меня на два года. Она погибла в железнодорожном вагоне. Она села в вагон, где были места для тридцати шести человек. Они же запихнули туда сто двадцать или сто сорок, одни лежали на головах других. Пол вагона засыпали негашеной известью. Моя сестра Катарина вошла в числе первых. Потом, когда они больше не могли втиснуть в вагон ни одного человека, даже ребенка, они задвинули двери и заперли их, отвели вагон на запасный путь и на неделю оставили на солнце.
Он прочел громким голосом:
— Уолт Уитмен. Он англичанин или американец?
— Американец, — ответил Джордж Таррас.
— Он поэт, не правда ли?
— Как Верлен, — сказал Таррас.
Серый взгляд скользнул по его лицу, перекинулся на книгу «Autumn Leaves» [«Autumn Leaves» (англ.) — «Осенние листья».]. Таррас задал вопрос и подумал, что ему надо его повторить, так долго не было ответа. Но мальчик наконец покачал головой:
— Английского пока не знаю, только несколько слов. Но я выучу. И испанский тоже. А может быть, и другие языки. Русский, например.
Таррас опустил голову, снова поднял ее. Он чувствовал себя совсем растерянным. Сидя за письменным столом, он не шелохнулся после прихода Реба Климрода, если не считать кое-каких записей. Неожиданно он сказал:
— Возьмите книгу себе.
— Но мне потребуется время.
— Держите, сколько потребуется.
— Я бесконечно вам благодарен, — сказал Реб Климрод, снова устремив взгляд на американского офицера.
— До Белжеца, — продолжал он, — мы с 11 августа 1941 года находились в Яновке. А еще раньше во Львове, у родителей моей матери Ханны Ицкович. Во Львов мы приехали в субботу 5 июля 1941 года. Моя мать хотела повидать своих родных, и она получила в Вене паспорта для нас четверых. Мы выехали из Вены 3 июля, в четверг, потому что Львов теперь оккупировали не русские, а немцы. Моя мать питала величайшее доверие к этим паспортам. Она ошибалась.
Он снова принялся перелистывать книгу, но жест его явно был машинальным. Он слегка склонил голову набок, чтобы прочесть названия других изданий:
— Монтень. Я читал.
— Возьмите и Монтеня, — сказал Таррас, которого волнение заставило заговорить.
Из двадцати книг, которые он взял с собой, чтобы попытаться преодолеть ужас, Таррас, если бы ему пришлось выбирать, выбрал бы томик Монтеня.
— А я вот, — сказал Реб Климрод, — я выжил.
Пытаясь совладать с собой, Таррас перечитал свои записи. Он вслух прочел список концлагерей, на этот раз в хронологическом порядке: «Яновка, Белжец, снова Яновка, Плешев, Гроссрозен, Бухенвальд, Маутхаузен…» И спросил:
— Вы действительно побывали во всех этих местах? Мальчик равнодушно кивнул. Он закрыл стеклянные дверцы шкафа, двумя руками прижав к груди обе книги.
— Когда вы попали в эту группу юных мальчиков? — спросил Таррас.
Реб Климрод отошел от шкафа, сделав два шага к двери:
— 2 октября 1943 года. В Белжеце. Оберштурмбанфюрер собрал нас в Белжеце.
— Тот самый оберштурмбанфюрер, фамилии которого вы не знаете?
— Тот самый, — ответил Реб Климрод, сделав еще шаг к двери.
«Он, конечно, лжет», — думал, все более и более приходя в замешательство, Таррас. Допуская, что все остальное в рассказе было правдивым — а Таррас верил в это, — казалось невероятным, чтобы мальчик, обладающий столь фантастической памятью, не знал фамилии мужчины, с которым прожил двадцать месяцев, с октября 1943 по май 1945 года. «Он лжет и знает, что мне это известно. Но ему безразлично. Так же как он не предпринимает ни малейших усилий, чтобы оправдываться или объяснить, каким образом он выжил. Так же как он, похоже, не испытывает стыда или ненависти. Но, может быть, он просто-напросто в состоянии шока…»
Это последнее объяснение казалось Джорджу Таррасу менее правдоподобным. Он в него не верил. Истина заключалась в том, что по случаю этой первой встречи с Ребом Михаэлем Климродом — встречи, чья продолжительность не превышала двадцати минут, — Таррас интуитивно почувствовал, что этот худой мальчишка, которому едва хватало физической силы держаться на ногах, обладает чудовищной способностью справляться с любыми обстоятельствами. «Быть выше их», — такие слова невольно пришли в голову Таррасу. Точно так же, как он физически чувствовал подавляющую тяжесть интеллекта, пылающего в блеклых и глубоких глазах Реба Климрода.
Мальчик сделал еще один шаг к двери. Его профиль обладал несколько жестокой красотой. Он намеревался уйти. Поэтому последние вопросы, которые задал Таррас, в сущности, имели целью продолжить разговор:
— А кто вас стегал хлыстом и прижигал сигаретами? — Вы знаете ответ, — сказал Реб.
— Тот самый офицер, все двадцать месяцев? Молчание. Еще шаг в сторону двери.
— Вы сказали, что оберштурмбанфюрер сформировал группу в Белжеце…
— 2 октября 1943 года.
— Сколько в ней было детей?
— Сто сорок два человека.
— С какой целью их собрали?
Легкое покачивание головой: он этого не знал. «И на этот раз он не лжет». Таррас сам удивлялся этой своей уверенности. Почти наспех он задал еще вопросы.
— Как вас вывозили из Белжеца?
— На грузовиках.
— В Яновку?
— В Яновку отправили только тридцать человек.
— А куда же сто двенадцать остальных?
— В Майданек.
Это название тогда никоим образом не было знакомо Таррасу. Впоследствии ему пришлось узнать, что имелся в виду другой лагерь смерти на польской земле, подобный Белжецу, Собибору, Треблинке, Освенциму или Хелму.
— Этих тридцать мальчиков отобрал сам оберштурмбанфюрер? В группе были одни мальчики?
— Отвечаю «да» на оба вопроса.
Реб Климрод прошел два последних шага, отделявших его от двери, вступил на порог. Таррас видел его в профиль.
— Я их вам верну, — сказал Реб. Он слегка пошевелил пальцами, сведенными на томиках Уитмена л Монтеня. — Эти книги, я их вам верну. — Он улыбнулся. — Пожалуйста, не задавайте мне больше вопросов. Оберштурмбанфюрер доставил нас в Яновку. Тогда он и начал использовать нас как женщин. Потом, когда русские сильно продвинулись, он и другие офицеры сумели убедить немецкую армию, что они выполняют специальное задание, что им поручено нас конвоировать. Именно поэтому они не убивали нас, хроме тех, кто больше не мог идти.
— Вы не помните фамилии ни одного из этих людей?
— Ни одного. «Он лжет».
— Сколько детей прибыло вместе с вами в Маутхаузен?
— Шестнадцать.
— Вас было лишь девять в могиле, где вас нашел лейтенант Сеттиньяз.
— Когда мы прибыли в Маутхаузен, они убили семерых. Оставили только своих любимцев.
Это было сказано столь же тихим и бесстрастным голосом. Он переступил через порог, остановился в последний раз:
— Могу ли я попросить вас назвать ваше имя, если не возражаете?
— Джордж Таррас.
Т, а, два р, а, с?
— Да.
Пауза.
— Я верну вам книги.
Австрия была разделена на четыре военные зоны. Маутхаузен оказался в советской. Огромное количество бывших узников было перевезено в лагерь для перемещенных лиц в Леондинге, близ Линца, в американскую зону, в строения школы, на скамьях которой сидел Адольф Гитлер, прямо напротив домика, где долго жили его отец и мать. Джордж Таррас, Дэвид Сеттиньяз и их отдел военных преступлений обосновались в Линце. Переезд занял у обоих мужчин много времени, так как одновременно они выполняли свои поручения по розыску бывших надзирателей-эсэсовцев, скрывающихся в окрестностях.
Так что лишь через много дней они заметили исчезновение юного Климрода.