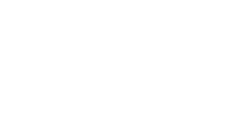Спустившись в долину из Райхенау, он провел остаток дня и следующую ночь в Пайербахе, в доме того старика с двуколкой, чье приглашение он сначала отверг. И единственный раз за четыре года после своего отъезда во Львов с матерью и сестрами он спал в настоящей постели, ел за семейным столом. Старика звали Доплер; троих его внуков забрали в немецкую армию: двое официально считались погибшими, а третий пропал без вести. Реб Климрод рассказал Доплеру о детях, оставленных на попечительство Эмме Донин, и просил его приглядывать за ними.
Реб сделал ошибку, снова заехав в Вену. Не для того, чтобы опять побродить рядом с Богемской канцелярией или же еще раз зайти в особняк. Он расспрашивал многих людей об Эпке.
Тщетно. Фамилия никому ничего не говорила; можно было подумать, что Эмма Донин ее выдумала.
На самом деле то, что он узнал эту фамилию, свидетельствовало о его успехах. Точно таким же успехом было и то любопытство, которое он проявлял относительно точных обстоятельств смерти Антона Хинтерзеера, сбитого военным грузовиком «седовласого старика», который состоял на службе у Кдимродов более полувека. Реб Климрод думал, что его просто-напросто убрал Эпке.
«Высокий и очень красивый блондин» в форме высшего офицера или генерала СС, которого описала Эмма Донин, был, очевидно, Эрих Штейр.
А Штейр, подобно Эпке, считал, что поиски Реба Климрода могут привести его к открытию чудовищной тайны.
Замок Хартхайм находится на дороге, идущей по берегу Дуная, если ехать из Линца в Пассау (Германия). Местечко называется Алькховен; это крохотная тихая деревушка, какие сотнями встречаются в Верхней Австрии. От Алькховена до Линца всего пятнадцать километров на юго-запад, тогда как Маутхаузен лежит к востоку от Линца.
Замок представлял собой огромное, в стиле Ренессанса, здание с многочисленными слепыми окнами, выстроенное в тяжеловесном и мрачном германском вкусе императора Максимилиана. Просторный двор, окруженный довольно красивыми колоннадами, не мог сгладить зловещего впечатления от ансамбля, который венчали четыре башни.
— Это был санаторий, — жалостливо сказал Ребу рыжий мужчина. — Что-то вроде госпиталя, если хотите. Я бывал там дважды, в 1942 году и потом в следующем. У них случилось короткое замыкание, и они меня вызвали. — Он мелко затряс головой и сказал с опаской: — Но ничего необычного я не видел.
Рыжий держал электромеханическую мастерскую в Линце, недалеко от центра города. Он с первого взгляда узнал Реба Климрода, в ту секунду, когда высоченная и худая фигура подростка выросла на пороге. Он вспомнил мальчика, которого офицеры СС постоянно таскали за собой — однажды даже на привязи, как собаку — в Маутхаузене, где сам он часто бывал, но только в качестве электротехника. Подобно всем людям, чья деятельность как-то была связана с концлагерями, он знал, что розыске военных преступников, проводимые отделом Военных преступлений, начали принимать широкий размах, но еще больше он опасался Еврейского комитета, недавно организованного в самом Линце. Евреи теперь стали страшно опасны. Уже два раза он встречал на улицах Линца другого бывшего узника Маутхаузена, который, кстати, жил не очень далеко от него, в доме № 40 на Ландштрассе
[В годы своего отрочества Адольф Эйхман жил в доме №32 на Ландштрассе (прим. автора)];
изредка ему мерещились в кошмарах черные в пронзительные, чуть застывшие глаза Визенталя, хотя он считал себя совершенно невинным и непричастным: ведь он был лишь электротехником, ничего более; что они могли поставить ему в вину?
Однако этот парень, пришедший к нему и расспрашивающий о Хартхайме, был еврей; рыжий отлично помнил полосатую робу, на которой желтая буква «J»
[От немецкого слова Jude — еврей.]
занимала центр двойного желто-красноватого треугольника.
Именно рыжий назвал Ребу Климроду фамилию фотографа из Зальцбурга.
Из Вены в Линц Реб добирался на подножке разбитого, открытого всем ветрам вагончика — их снова пустили по отдельным линиям австрийских железных дорог. Он приехал в Линц 30 июня и пешком — или на военном джипе (эти машины охотно подвозили штатских) — преодолел четырнадцать километров до Алькховена. Он никогда никому не говорил, побывал он или нет в замке Хартхайм.
Ни Таррас, ни Сеттиньяз не осмелились спросить его об этом.
Реб Михаэль Климрод был первым человеком — кроме, разумеется, тех, кто там работал, — который раскрыл, чем действительно занимались в замке Хартхайм. Об этой деятельности было официально сообщено лишь в 1951 году, спустя шесть лет, благодаря чистой случайности и вмешательству Симона Визенталя.
В Зальцбург он прибыл второго июля ночью либо утром третьего. Он преодолел более шестисот километров — по крайней мере две трети из них пешком, — спал мало или не спал совсем, ночуя где попало (единственным исключением была его остановка в семействе Доплера в Пайербахе), без всякой дружеской поддержки, все глубже погружаясь в безнадежное и трагическое одиночество, охваченный одной навязчивой мыслью: узнать, где и как погиб отец..
Зальцбургского фотографа звали Лотар.
— Его нет дома, — сказала женщина с седыми, коротко подстриженными волосами. — Здесь он живет, но не работает. Вы можете пойти в его лабораторию. Она согласилась указать ее адрес: в Durchhauser — крытом пассаже, — прямо за Башней Колоколов.
— Вы знаете, где это?
— Найду, — ответил Реб.
Он ушел, стараясь не хромать. Переходя площадь Старого рынка, совсем рядом с созданием князей-архиепископов Зальцбурга — бывшей аптекой, которая так странно выглядела фасада, он второй раз заметил машину «Скорой помощи».
Первый раз это произошло на том берегу Зальцаха, когда он, сворачивая с ведущей из Линца дороги, заметил машину, припаркованную у въезда на Штаатсбрюкке, капотом в его сторону. На переднем сиденье было двое мужчин, неподвижных и с невыразительными лицами подчиненных, ждущих приказа отправиться в путь. На выкрашенной в цвет хаки машине «Скорой помощи» был красный крест на белом фоне; в ней совершенно ничего не могло привлечь внимания.
И вот теперь она оказалась в центре старого Зальцбурга, снова на стоянке, хотя за рулем никто не сидел. Но номер был тот же, та же царапина справа на переднем бампере.
Реб Климрод с невозмутимым лицом наконец перешел площадь, ни с того, ни с сего напустив на себя какую-то неуклюжесть и даже еще сильнее припадая на одну ногу, чего раньше не делал.
Реб находился примерно в дустах пятидесяти метрах от Башни Колоколов.
До Башни он добрался через двадцать пять минут.
Durchhauser был темным и узким; подняв руки над головой, даже не вытягивая их, Реб Климрод мог бы коснуться свода. Он прошел вперед метров десять, миновав какие-то темные лавчонки, прежде чем заметил табличку, на которой по белому фону было довольно неуклюже выведено черной краской: «К.-Х. Лотар — художественная фотография». Он толкнул стеклянную дверь, тонко задребезжал колокольчик. Он очутился в низкой зале, стены и потолок которой были выложены из камня. По обе стороны от него располагались два больших деревянных прилавка, словно у торговцев тканями; но они были как и полки за ними.
— Я здесь, — послышался голос из задней комнаты.
В глубине залы полотняная занавеска скрывала раму двери. Реб Климрод приподнял ее и проник в следующую комнату. Он оказался перед четырьмя мужчинами, один из которых мгновенно приставил к его левому виску пистолет:
— Стой смирно, не кричи.
Он узнал двоих: это были те самые, что сидели на переднем сиденье военной машины «Скорой помощи». Третьего он опознал по описанию, которое сделала в Райхенау Эмма Донин: это был Эпке. Четвертого он никогда не видел. Они спросили его, где он пропадал и как так получилось, что он потратил столько времени на то, чтобы добраться сюда от площади Старого рынка, которая, если идти пешком и даже хромая, находится всего в двух-трех минутах ходьбы.
Лицо Реба Климрода невероятно преобразилось, как и весь он. Он теперь казался гораздо моложе своих лет, более хрупким и измученным. Глаза его широко раскрылись от ужаса:
— Я хочу есть, я устал, — ответил он хнычущим голосом мальчишки, не понимающего, что с ним происходит. И смертельно испуганного.
Дэвид Сеттиньяз принял телефонный звонок вместо Тарраса, ушедшего, как он выражался, «побродить на свежем воздухе». Звонок исходил, разумеется, от какого-то военного чина, поскольку гражданская телефонная связь еще не была полностью восстановлена в Австрии. Человек на линии нес невнятную галиматью, полагая, что говорит по-английски. Сеттиньяз определил акцент и предложил:
— Вы можете говорить по-французски, господин майор.
Дэвид объяснил, кто он такой и в чем он считает себя компетентным, чтобы заменить капитана Тарраса во всех или почтя во всех делах. Затем он замолчал, со все возрастающим изумлением слушая то, что сообщал ему из Зальцбурга офицер французских оккупационных войск. В действительности Дэвид, почти не раздумывая, благодаря какому-то порыву, который будет иметь в его жизни немалое значение, впервые за свою служебную карьеру солгал по крупному:
— Главное, не верьте ему на слово, — сказал он, — юноша старше и опытнее, чем кажется. Доверьтесь ему во всем, он работает на O.S.S
.[O.S.S. — управление стратегического обеспечения (пропаганда, стратегическая разведка, организация диверсий и т.п.) США.]
, и это один из лучших агентов. Пожалуйста, точно выполняйте то, о чем он вас попросит. И только повесив трубку, он задал сам себе по-настоящему значительные вопросы: о тех мотивах, которые заставили его совершить эту глупость, о том, что он все-таки сможет сказать Таррасу, чтобы оправдать эту грубую ложь, а помимо прочего, о той в очередной раз необычайной — и опасной — ситуации, в которой оказался юный Климрод.
Четвертым человеком был попросту Карл-Хайнц Лотар. Полный краснолицый мужчина, довольно высокий и, как это часто бывает, с маленькими, почти женскими ручками. Несмотря на царящую под каменным сводом прохладу, он истекал потом и явно испытывал страх.
В замке Хартхайм с осени 1940 и по конец марта 1945 года работали два австрийских фотографа. Один из них все еще жив, сейчас он живет в Линце; о нем, называя его Бруно Брукнером, упоминает в своих воспоминаниях Симон Визенталь.
Другой был Карл-Хайнц Лотар. Для него все началось в середине октября 1940 года. Его вызвали в Gauleitung
[Gauteitung (нем.) — областное управление.]
. Линца спросили, может ли он выполнить кое-какие «специальные фотографические работы», соблюдая на сей счет полнейшую секретность. Предложили ему триста сорок марок в месяц. Он согласился, и его доставили на машине в замок Хартхайм, которому в то время уже дали прозвище «санаторий».
Директором учреждения тогда был капитан Вирт, который впоследствии в качестве вознаграждения за свою превосходную работу в Хартхайме получил должность, директора главного управления концлагерями в Белжеце, Собиборе и Треблинке в Польше. Позже на посту директора Хартхайма его сменил Франц Штанглъ, потом ставший также управляющим Треблинкой. Собственно медицинское руководство «санаторием» обеспечивал доктор Рудольф Лохауэр
[Он покончил жизнь самоубийством вместе со своей женой и своими детьми в конце апреля 1945 года (прим. автора). ]
из Линца со своим помощником доктором Георгом Ренно
[Арестован в 1963 году во Франкфурте (прим.автора).].
Вирт объяснил Лотару, какого рода работы от него ждут: речь шла о том, чтобы делать наивысшего качества фотографии больных, на которых врачи Хартхайма проводили опыты; в количестве тридцати — сорока в день. Эти опыты заключались в определении самых действенных способов убийства людей и разработке в этой области промышленной технологии, разработке строго научной шкалы тех ступеней страдания, которые может вытерпеть человеческое тело перед тем, как погибнет.
Лотара просили фотографировать и снимать на кинопленку головной мозг подопытного; мозг, который старательно обнажали, срезав черепной свод для того, чтобы в момент смерти зафиксировать вероятные, видимые изменения.
Такова была первая, но не самая важная задача Хартхайма: в действительности замок был школой и центром подготовки, предназначенным для «студентов», которые, завершив свое обучение, направлялись в различные лагеря уничтожения, чье создание было предусмотрено Гитлером на совещании в Ваннзе в январе 1941 года (на самом деле вопрос об их создании рассматривался и раньше). Впрочем, Хартхайм был не единственным заведением подобного рода
[Существовали и три других: замок Графенегг близ Бранденбурга, в сорока километрах от Потсдама, замок Гадамар близ Лимбурга, между Кобленцем и Франкфуртом, и замок Зонненштайн в Саксонии (прим. автора).]
.
Лотару в его работе мешало то, что ему часто приходилось снимать через глазок в двери, когда экспериментировали с газами, на первых порах мешало зловоние от кремационной печи. В общей сложности он, должно быть, сфотографировал по крайней мере две трети человек, уничтоженных в Хартхайме.
Наверное, его смущало лишь одно: подавляющее большинство из тридцати тысяч были христианами — немцами, австрийцами или чехами, направленными в Хартхайм для того, чтобы они подпали под программу Vernichtung Lebesunwerten Lebens («Уничтожение-жизней-которые-не-достойны-жить»), разработанную по требованию Гитлера и контролируемую Мартином Борманом, которая предусматривала истребление физически и умственно отсталых, неизлечимо больных… либо просто стариков, входящих в категорию «лишних ртов». Среди них не было ни одного еврея: честь умереть в Хартхайме, Графенегге, Гадамаре или Зоннеиштайне предоставлялась только арийцам [Бывший австрийский министр Алфонс Форбах едва избегнул этой участи, хота был в возрасте и почти инвалидом; тем не менее он сохранял прекрасный каллиграфический почерк, и, уже отобранный для Хартхайма, он в последнюю минуту не был отправлен. Его назначили секретарем в Дахау. Всякие бывают исключения. Начиная с 1943 года в Хартхайм, в частности, были присланы французские военнопленные, поскольку богадельни и приюты не поставляли достаточных квот подопытных (прим. автора). ].
— Но не твой отец, — сказал Эпке Ребу Климроду. — Твой отец действительно погиб в Хартхайме. Ведь ты это так хотел узнать?
— Я не верю вам, — сказал Реб глухим, дрожащим голосом. — Он жив.
Эпке усмехнулся. Может быть, и вправду Эпке была не его фамилия: он был невероятно белокурым, почти белесым; даже брови терялись на его прозрачной коже, а по-немецки он говорил с интонациями, свойственными жителям прибалтийских государств — Эстонии, Литвы или Латвии. Он усмехнулся и с сожалением покачал головой, словно учитель, не получивший от хорошего ученика ожидаемого ответа.
— Он жив, — более твердо повторил Реб. — Вы лжете.
Реб выглядел, как подросток, обезумевший от страха. Казалось даже, что он стал меньше ростом. Он, как-то обмякнув, стоял, прислонившись к стене, с приставленным к виску дулом люгера. Он обвел взглядом всех четверых мужчин, чуть задержавшись на Лотаре, вспотевшем больше обычного. Однако за Лотаром находилось подвальное окно, забранное двумя железными прутьями, снабженное пыльным стеклом — во всяком случае, не столь пыльным, чтобы сквозь него нельзя было видеть, что происходит на улице.
— Пора с этим кончать, — сказал Эпке.
— В письме, которое оставил мне отец…
Реб внезапно замолчал, словно поняв, что наговорил лишнего. Эпке живо посмотрел на него блеклыми глазами:
— Какое письмо?
— Мой отец жив, я знаю это.
— Что за письмо?
Сквозь небольшой полукруг подвального окна справа можно было видеть прохожих на улице — от ботинок до колен, — хотя шум уличного движения сюда не доносился. Человек в ботинках парашютиста уже прошел мимо один раз; он появился снова, по положению его ног было ясно, что он стоит напротив если не подвального окна, то по крайней мере дома, где находились Реб и четверо мужчин.
Сломленный Реб опустил голову:
— Я оставил его в Вене.
— В Вене? Где?
— Я вам не скажу.
Он произнес эти слова тоном обиженного мальчишки. Эпке недоверчиво смотрел на него. Наконец он кивнул головой и, не оборачиваясь, сказал:
— Лотар, ты можешь найти фотографии его отца? Толстяк обтер своими женскими ручками лоб и все лицо:
— Если я буду знать день, то смогу.
— Август 1941-го. В двадцатых числах, — улыбнулся Ребу Эпке. — А потом, малыш, ты расскажешь мне об этом письме. — И снова улыбнулся.
Лотар опустился на колени перед одним из шести металлических сундуков. Открыл его. Там были аккуратными рядами сложены негативы и отпечатки. Его пальцы пробежали по рядам этикеток. Реб по-прежнему стоял, опустив голову. Молчание затягивалось.
— 21 августа 1941 года, — сказал Лотар.
Послышался шелест бумаги.
— Климрод!
Крепкая рука схватила Реба за подбородок и силой заставила его поднять голову. Но он упрямо не открывал глаз; черты его лица чудовищно исказились, на этот раз без всякого притворства.
— Открой глаза, малыш. Разве не ради этого ты приходил в Райхенау и пришел из Вены сюда, в Зальцбург?
Реб протянул руку, взял фотографии. Их было три; каждый раз тело снималось через застекленный глазок.
Он увидел своего отца голым, с атрофированными ногами, ползущим по полу, пытающимся зацепиться ногтями за цемент. Все три снимка, должно быть, сделаны с интервалом в пятнадцать — двадцать секунд. Они изображали процесс удушья. На последнем документе, несмотря на черно-белую съемку, можно было отчетливо различить текущую изо рта кровь и кусочек языка, который мученик сам себе откусил.
Рука, державшая Реба, отпрянула. Реб рухнул на колени, уронив голову на грудь. Он с трудом повернулся и прислонился щекой к прохладному камню стены.
— Сожгите к чертовой матери все это, — послышался голос Эпке.
Двое мужчин — мнимых санитаров — стали лить бензин в сундуки, с которых сбили замки.
— Мой милый Лотар, — вкрадчиво сказал Эпке. — Значит, мой милый Лотар, мы хотели собрать личную коллекцию для себя?
И почти в эту секунду раздался выстрел, который поразил Лотара прямо в рот. Толчком девятимиллиметровой пули, выпущенной в упор, фотографа отбросило назад. Он упал на один из уже охваченных пламенем сундуков.
— Пусть сгорит заодно, — сказал Эпке. — А теперь твоя очередь, малыш. Ну-ка, расскажи мне об этом письме.
Он поднял ствол своего люгера и приставил его к переносице Реба. Нет сомнения, что этот жест стоил ему жизни. Увидев это сквозь стекла подвальных окон, люди из военной полиции неправильно поняли его смысл. Они открыли огонь из автоматических пистолетов. По меньшей мере две очереди прошили Эпке в ту секунду, когда желто-голубые языки вспыхнувшего бензина ослепительно осветили подвал. Он рухнул на Реба, чем, помимо вероятной сноровки стрелков, и объясняется тот факт, что Реб остался цел и невредим, получив лишь царапину на правом плече.
Что касается двух других, то один из них пытался бежать и был застрелен на пороге стеклянной двери с колокольчиком. Второй оказал сопротивление, швырнув в сторону окна канистру с бензином, который, мгновенно вспыхнул. Скрытый от взглядов густым, валящим из сундуков дымом, он в одиночку на несколько минут задержал полицейских.
Но этим он ничего не добился. Он вновь возник в виде живого факела; его из милосердии прикончили.
Реба вытащили на улицу. Вмешался французский майор, и им занялись. Он был залит кровью, хоть и не собственной, но на самом деле, не пострадал. Однако на все вопросы, задаваемые французом и его переводчиком-австрийцем, давал только невнятные, почти лишенные смысла ответы, пристально глядя на расспрашивающих своими растерянными большими серыми глазами.
Когда он явился во французскую военную полицию Зальцбурга, чтобы попросить помощи (этот его демарш и вызвал телефонный звонок, принятый Сеттиньязом), то утверждал, что действовал по указаниям капитана Тарраса из Линца, и говорил о военных преступниках, на след которых ему удалось напасть. То, что он выбрал своим собеседником француза, без сомнения, не было делом случая: из всех трех великих держав французы явно были самыми пылкими в охоте на бонз бывшего Третьего рейха.
Таррас прибыл в Зальцбург через пять часов после перестрелки, решив прикрыть ложь Сеттиньяза ценой спора с начальником отдела O.S.S. в Линце капитаном О’Мира. Он уладил дело с присущей ему саркастической резкостью. Этому, кстати, способствовали обстоятельства: обыск, проведенный в доме Карла-Хайнца Лотара, показал, что фотографа — тут вообще не проживала женщина — увезли рано утром трое неизвестных, к тому же обчистивших квартиру. Без сомнения, они искали содержимое железных сундуков, которые были обнаружены обгоревшими.
— Какого черта вы жалуетесь? — заявил Таррас военным и гражданским полицейским Зальцбурга. — Дело ясное: этот Лотар собрал документы, которые жаждали заполучить наши дорогие наци лишь для того, чтобы их уничтожить. Что, кстати, они и сделали, прикончив для пущей надежности Лотара. Куда уж проще! Даже полицейские, даже военные полицейские, должны были бы это понимать. Что касается моего юного агента, то он, разумеется, превысил данные ему мной инструкции по выслеживанию. Но надо и его понять: его мать и сестры погибли в концлагере в Польше, да и сам он чудом уцелел. Его рвение объяснимо. А сейчас он в состоянии шока. Поэтому оставьте его в покое, прошу вас…
Он привез Реба Климрода в Линц, отправил в госпиталь, хотя и сам тоже пытался его расспросить. Но юноша оставался в прострации, погрузившись в полную немоту. Его физическое состояние вызывало беспокойство: организм перестал сопротивляться, и, что самое худшее, в его глазах погасло дикое пламя, так изумлявшее Тарраса и Сеттиньяза. Казалось, что благодаря своеобразной замедленной реакции его настиг синдром концлагерей, поражавший большинство уцелевших, которые, пережив первые часы или первые дни, оказывались раздавленными отсутствием смысла жизни и погружались в полную депрессию.
Дэвид Сеттиньяз также вспоминает, что после Зальцбурга он раза два навещал в госпитале Климрода, сам удивляясь тому интересу, который к нему испытывал. Реб упрямо молчал. Создавалось впечатление, что ему ничего не было известно о своей семье, своем отце, о людях, которые едва его не прикончили. Он, конечно, ни слова не говорил об Эрихе Штейре и о мести, которая в нем зрела.
Когда 7 августа 1945 года Реб Климрод исчез вторично, оба американца простосердечно подумали, что больше никогда не увидят странного сероглазого юношу.
8
Капитан (это звание он получил от англичан, вместе с которыми в составе диверсионных отрядов Ее Королевского Величества сражался в Ливии) Элиезер Баразани приехал в Австрию в последних числах мая 1945 года. У него была простая и четкая задача: вербовать и тайно переправлять в Палестину уцелевших бывших узников концлагерей, отдавая явное предпочтение молодым, совсем юным мужчинам и женщинам, которые были способны использовать в борьбе свои потенциальные силы, закаленные в огне крематориев. Это был родившийся в Палестине человек маленького роста, худой и изысканно вежливый.
Впервые он увидел Реба Климрода 5 июля 1945 года и, по правде говоря, почти не обратил на него внимания. Фамилия Климрод была нееврейская, а главное, юноша (Таррас привез Реба из Зальцбурга всего пят дней тому назад) находился в таком физическом в психологическом состоянии, что в ближайшие недели, если не месяцы, Баразани даже в голову не пришла бы мысль о его эмиграции, особенно нелегальной.
Впрочем, в тот день у представителя Еврейской бригады оказались на примете два других кандидата: один, находившийся в соседней палате, и второй, чье первое имя случайно оказалось Реб, а фамилия была Байниш. Реб Яэль Байниш был евреем из Польши, прибывшим в Маутхаузен в конце зимы 1944/1945 года. В эшелоне с тремя тысячами заключенных он был пригнан из Бухенвальда в концлагерь в Верхней Австрии (в этом же эшелоне находились Симон Визенталь и князь Радзивилл); только тысяча человек прибыли на место назначения живыми. В 1945 году ему было девятнадцать лет.
Его койка стояла справа, рядом с койкой Реба Климрода. Он и Баразани долго беседовали на идиш. У Баразани не сохранилось почти никаких воспоминаний о лежавшем в метре от них парне, если не считать весьма смутного впечатления, что все, сказанное им Байнишу, казалось, ничуть не интересовало незнакомца. Впрочем, Баразани, хотя превосходно знал иврит и английский, на идиш изъяснялся с трудом, чего оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание Реба Климрода.
На сделанное ему предложение Яэль Байниш немедленно согласился, намекнув, что он готов ехать сразу, как только ему позволят общее состояние и физическая форма (за два дня до прихода в Маутхаузен танков VII американской армии эсэсовец перебил ему прикладом шейку бедра, и Яэля положили в палату А, блок VI, «блок смерти»).
Баразани сказал, что снова приедет через две недели.
Что и сделал.
— Я хотел поговорить с вами.
Эти слова были произнесены на иврите. Баразани обернулся и сперва никого не заметил. Коридор госпиталя казался пустым. Потом он разглядел высокую худую фигуру в углу, у колонны, в двух шагах от двери, из которой он появился. Лицо незнакомца ничего Баразани не говорило. Зато взгляд поразил необыкновенной пристальностью.
— Кто вы?
— Реб Михаэль Климрод. Сосед по койке Яэля Байниша.
Его иврит был абсолютно правильным, Хотя говорил он совсем медленно, с трудно различимым акцентом, который иногда присущ франкофонам. Иногда запинался, как это делают люди, снова заговорившие на почти забытом ими языке. Он, наверное, прочел вопрос в глазах Баразани, потому что тут же прибавил:
— Моя мать была еврейка Ханна Ицкович из Львова. Она попала в Белжец, мои сестры тоже. Отец обучил меня французскому, мать — ивриту и идиш. Я знаю итальянский и немного испанский. Учу английский.
Он с трудом пошевелился, протянув свою длинную худую руку, которую до сих пор держал за спиной, и показал обложку книги «Autumn Leaves» Уитмена. Но глаз не отвел и смотрел на палестинца в упор, с вызывающей чувство неловкости настойчивостью.
— Сколько же вам лет? — таков был первый вопрос, пришедший на ум слегка ошарашенному Баразани.
— В сентябре исполнится семнадцать. 18 сентября. Баразани испытывал ощущение, которое в тот момент он не мог определить: — И что вы от меня хотите?
— Я хотел бы уехать с Байнишем и другими, если охотники найдутся.
Молодость Климрода не смущала Баразани. Семнадцать лет для большинства борцов за «Эретц Исраэл» («Землю Израиля») были почти зрелым возрастом, по крайней мере в таких подпольных группах, как «Иргун», «Штерн». Причина его смущения была в другом. Он прокрутил в воображении возможную попытку проникновения в их ряды англичан — что уже и произошло, — чтобы сорвать массовую эмиграцию, которой лондонские политики боялись пуще всего.
— Ты был в Маутхаузене?
— Да.
— Я проверю. Перепроверю каждое твое слово. Серые глаза даже не моргнули.
— Вы совершили бы ошибку, не сделав этого. И вам нет необходимости сразу же давать мне ответ. Я не мог бы всерьез отнестись к людям, которые завербовали меня в несколько минут. Кстати, я физически не в состоянии ехать.
— А когда сможешь?
— Когда и Яэль Байниш. Через две недели.
Баразани одержал свою победу. Он специально встретился с членами Еврейского комитета Линца, в который входил и Симон Визенталь. Фамилия Климрод была им неизвестна. Лишь один человек вспомнил, что видел Реба в лагере: «Он был накрашенный, как женщина, в окружении группы офицеров СС».
Баразани удалось найти добрый десяток мужчин и женщин из Львова, которые ждали своего часа в Леондинге: никто из них не встречал в городе Ханну Ицкович-Климрод с тремя детьми в июле 1941 года.
20 июля Баразани отчитался перед своим начальником Ашером Бен-Натаном [Будущий посол Израиля во Франции (прим. автора).], ответственным за сбор австрийских евреев в американской зоне. Он поделился с ним своими сомнениями: «Что-то меня смущает в этом мальчишке, никак не пойму, что именно». — «Он слишком умен?» — «Умен? Когда я с ним говорю, мне кажется, будто он взрослый, а я младенец и по уму мне годика три! Наверное, он соображает раза в три-четыре быстрее. Я даже не успеваю договорить. Он отвечает раньше, чем я задаю вопросы». — «Это, без сомнения, вас и смущает, — смеясь, ответил Бен-Натан. — Мне самому это тоже бы мешало».
Они договорились, что Баразани будет доверяться лишь собственному чутью.
30 июля Баразани снова явился к Яэлю Байнишу и Ребу Климроду. Он объявил им свое решение: они оба уезжают в ночь с 6 на 7 августа.
Баразани действительно нашел приемлемый вариант. Поначалу Байниш станет присматривать за Климродом. Такова была первая предосторожность. Ее он дополнил и второй, совершенно неукоснительной: Баразани послал в Тель-Авив сообщение, где особо рекомендовал Реба Климрода Дову Лазарусу.
Реб протянул руку Яэлю Байнишу, у которого еще плохо сгибалась правая нога и бедренный сустав. Он втащил его в кузов грузовика, где уже сидели одиннадцать мужчин и пять женщин, большинство из которых были в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Царило полное молчание. Кто-то поднял и закрепил задний борт, закрепил также цвета хаки брезентовый тент; сразу стало совершенно темно. Снаружи донеслось чье-то перешептывание, потом включился мотор, и грузовик тронулся с места. Это было в час ночи 7 августа 1945 года.
…Чтобы добраться до места встречи, Реб и Яэль вышли из госпиталя задолго до полуночи. Обходя центр, прошли через весь Линц и добрались до первого пункта сбора вблизи пакгауза, находившегося среди портовых сооружений на берегу Дуная. Здесь к ним присоединились двое мужчин и одна девушка, но было решено дальше идти поодиночке. Они шли до южного выхода из города, на дорогу в Санкт-Флориан. Реб Климрод заранее никогда не знал места и время встречи, подлинных имен своих спутников, условий, при которых состоится отъезд.
Во время второй части путешествия он не предпринял ни единой попытки разузнать обо всем подробнее. Выехав из Линца, более четырех часов ехали без остановок; молодая женщина что-то негромко напевала на идиш, хотя ее лица разглядеть было нельзя. Впервые остановились совсем ненадолго, чтобы справить естественную нужду. Занимавшийся рассвет освещал горы, которых Реб не мог узнать, а Байниш, не знавший почти ничего об Австрии, и подавно. Кто-то из мужчин назвал по-польски ущелье Кламм, что лежит к северу от Бад-Гастейна. А Байниш, тихо засмеявшись, ответил: «Не трудитесь переводить, он и польский знает…»
После остановки ехали еще часа два; яркий свет австрийского лета пятнами просачивался сквозь щели в брезентовом тенте.
Весь день седьмого августа они провели на уединенной ферме близ Иглса, на склонах Патсхеркофеля. И снова двинулись в путь с наступлением ночи, часов в одиннадцать; проехали Инсбрук, где Реб услышал, как два человека — должно быть, солдаты, у одного из них был сильный, певучий южный акцент — говорили по-французски. Потом Реб узнал дорогу, по которой они ехали: железнодорожный туннель в Миттенвальде и легкий шум реки Инн, о которой он прекрасно помнил. Летом 1938 года венская гимназия, где он учился (опережая на два класса своих сверстников), организовала здесь, в Санкт-Антоне, каникулы.
Он подумал, что они направляются в Швейцарию, но в Ландеке грузовик повернул налево, оставив позади предгорье Альп, и покатил в сторону Пфундса и Наундерса, к перевалу Решен. Спустя час грузовик остановился, избавился от своего человеческого груза, развернулся и сразу же укатил вниз. Дальше шли пешком, их вел молодой парень, который выплыл из темноты и по-немецки посоветовал им соблюдать полную тишину. После примерно трех часов восхождения под покровом ночи они добрались до слабо освещенной гостиницы. Они проникли в нее не через главную дверь, а по лестнице, что вела на широкий, в тирольском стиле, балкон, откуда они попали на второй этаж. Здесь уже находилась другая группа из двадцати эмигрантов, соблюдавших тишину с такими предосторожностями, что даже разулись, чтобы не тревожить постояльцев первого этажа.
…Эти постояльцы тоже вели себя необычайно тихо. Час спустя после прихода Реб Климрод выглянул в окно и увидел человек пятнадцать мужчин; кое-кто из них был в возрасте. У вновь прибывших чувствовалась военная выправка, несмотря на их роскошные цивильные костюмы и дорогие чемоданы. Они осторожно подошли к гостинице, но их появление в холле первого этажа вызвало взрыв возгласов, кстати, быстро смолкнувших.
Лишь гостиничная прислуга сновала взад-вперед по этажам как ни в чем не бывало.
Яэль подобрался поближе к Ребу:
— Ты догадываешься, о чем я думаю?
Реб кивнул. Через пол — с двухметровой глубины — было слышно, как люди устраивались на ночлег. Если бы оба молодых человека легли животом на пол, они могли бы расслышать ведущиеся шепотом разговоры. Гримаса ненависти на несколько секунд исказила тонкие черты Яэля Байвиша, уцелевшего — среди немногих — в варшавском гетто:
— Это беглые наци!
Он заплакал от бессильной ярости.
Весь день 8 августа прошел в этом странном, противоестественном соседстве.
И не исключено, что в этой гостинице на перевале Решен в нескольких метрах друг от друга одновременно находились выжившие узники Маутхаузена, других концлагерей и их бывшие палачи, которых кормила одна гостиничная прислуга и переводили через границу одни и те же контрабандисты.
Эриха Штейра среди них не было. Даже Сеттиньяз полагал, что там его быть не могло. Даты не совпадали.
А маршрут был тот же.
На следующую ночь они перешли итальянскую границу. С интервалом в два часа. Сначала беглые эсэсовцы, которым отдавалась пальма первенства.
В Италии колонна грузовиков, ничуть не таясь, ждала Реба Климрода и его спутников, число которых, возросло благодаря еще нескольким группам, ранее перешедшим перевал Решен и укрывавшимся на фермах на итальянском склоне горы, и теперь перевалило за сотню.
Яэль Байниш был крайне веселого нрава и обладал какой-то поразительной способностью все высмеивать. В Маутхаузене он десятки раз мог сразу же погибнуть, прямо во дворе, когда передразнивал походку или манеры кого-либо из охранников. Спускаясь с перевала Решен, он беспрерывно пел либо с дерзостью, граничащей для некоторых с непристойностью, изображал некоего Шлоймеле, гордость его родной деревни Крешев, близ Люблина в Польше, который был раввином или кем-то в этом роде.
Но в ту секунду, как они увидели грузовики и солдатские мундиры, все, даже Яэль Байниш, застыли, остолбенев. Грузовики и мундиры, несомненно, были английскими. И речь шла, узнали они, о 412-й транспортной роте Ее Королевского Величества. Благодаря которой все они, преодолевая упорные преграды, чинимые Великобританией, проберутся на юг Италии, откуда отплывут в «Эретц Исраэл».
412-й королевской транспортной роты в действительности не существовало. Она была плодом богатого воображения человека по имени Иегуди Арази, резидента «Моссада»
[«Моссад Алиа Бет» — организация, созданная в 1937 году в Тель-Авиве «Хаганой» — отрядам