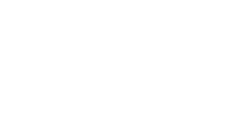11
Реб Михаэль Климрод приехал в Каир в последние дни марта 1946 года. Один. Они с Лазарусом путешествовали раздельно, но снова встретились в египетской столице.
По мнению Яэля Байниша, самого достоверного и самого постоянного свидетеля этого периода жизни Короля, Реб Климрод, а главное, Лазарус значились среди тех террористов, за кем в Палестине британцы охотились усиленнее всего. Схватка в Ягуре этому во многом способствовала; у англичан, особенно у двух инспекторов Отдела уголовной полиции, времени было с лихвой, чтобы рассмотреть их лица, а высокий рост Климрода позволял довольно легко его опознать.
Нападение на полицейский пост в Ягуре было, однако, лишь эпизодом в значительно более широком наступлении, проводимом как «Иргуном», так и группой «Штерн». Общее наступление — руководимая Лазарусом операция являлась лишь его частью — началось 1 марта; были атакованы казармы в Хайфе, Реховоте, Пардес-Гане, а также пути сообщения в пригородах Иерусалима, Тель-Авива и Петах-Тиквы. Даже штаб Шестой воздушно-десантной дивизии в Иерусалиме взлетел на воздух.
Говоря о причинах, вынудивших Климрода и Лазаруса уехать в Каир (а потом в Европу), Яэль Байниш четко объясняет все, что касается второго: «Иргун», желавшая видеть себя строго военной, хотя и подпольной, организацией, ставила в упрек бывшему товарищу по оружию ирландцев из ИРА и североамериканских гангстеров его почти непреодолимую склонность к бессмысленной жестокости, которая в крайних случаях шла вразрез с поставленными политическими целями.
Что касается Реба Климрода, то Байниш ничего тогда не знал о мотивах его отъезда. «В какой-то момент я подумал, что он получил новое назначение, например в филиал «Моссада» в Европе. Только в августе или сентябре я узнал, что все было не так и уехал он по своей инициативе. Я был разочарован и даже встревожен: его совместная работа с Довом не сулила ничего хорошего. Впоследствии подтвердилось, что я ошибался лишь наполовину…»
В Каире Надя Хаким занимала виллу на острове Гезире, в жилом квартале неподалеку от проспекта короля Фуада. Эта бывшая вольнонаемная вышла замуж за одного из сыновей Хакима — владельца одноименного банка, того самого, где некоторое время служил Реб Климрод. Перемена в социальном положении никак не отразилась на связях Нади с подпольными сионистскими движениями: ее предупредили о приезде двух человек и попросили им помочь сперва устроиться в египетской столице, а потом выехать в Европу. Она поселила Лазаруса и Климрода в своей прежней квартире на Шейх Рихани-стрит, позади посольства США, и достала паспорта: ирландский для Лазаруса и французский для Климрода-Юбрехта.
Раздобыла им два места на пароходе Французской морской компании грузовых перевозок. Оба были в Марселе 30 марта.
А Реб Климрод, уже один, появился в Нюрнберге 8 апреля.
— «Накам», — сказал Буним Аниелевич. И спросил по-немецки: — Тебе понятно это слово?
— «Месть» на иврите, — ответил Реб.
Они шли по улицам Нюрнберга, по пригородам, между рядами разрушенных домов, под мелким и холодным дождем. Они были почти одинакового роста: Климрод сантиметра на три-четыре повыше. Аниелевичу было лет двадцать восемь; блеск его больших, глубоких и печальных глаз постоянно смягчала какая-то затуманенность.
— Мне совсем не нравится твой спутник, — помолчав, сказал он. — Во-первых, он слишком стар. Самому старшему среди нас не больше тридцати. А во-вторых, и это главное, его профессиональная сторона. Он похож на американского гангстера.
— Он работает крайне эффективно. Лучше меня. Пока.
— Я ценю эффективность. Не выношу этих талмудических споров о ста восьмидесяти семи основаниях для совершения или несовершения какого-либо действия, если даже речь идет о том, открыть или закрыть дверь. Но для того, что мы хотим предпринять, для того, что мы уже начали осуществлять, в тех качествах, каких мы требуем от людей, эффективность стоит на втором месте. Мне не нужны профессиональные убийцы, Реб. Прежде всего я жажду… — он запнулся и сумел как-то робко выговорить это слово, — чистоты. Мы будем убивать, каждую секунду испытывая ужас перед убийством. Говорят, месть — оружие слабых, но что делать? Суть ведь не в том, чтобы наказать этих людей, а в том, чтобы не дать забыть об их преступлениях. О них уже забывают. Даже здесь, где судят кое-кого из преступников и пишут об этом в газетах. Но сколько времени это будет продолжаться? Необходимо, чтобы весь мир знал, что подобная гнусность не может быть забыта через два или три года. И для этого нет другого выхода, кроме как убивать. Ты действительно хочешь
Реб как-то неопределенно кивнул, не вынимая длинных костлявых рук из потертых карманов куртки.
— Я навел справки о тебе, — продолжал Аниелевич. — У нас очень разветвленная организация, агенты по всей Европе. И, кроме того, у меня есть друзья, надежные друзья, в Варшаве и Москве. Я хочу сказать, у меня лично. В Тель-Авиве они осуждают нашу деятельность, «Хагана» хотела бы нас контролировать или, может быть, даже уничтожить. Для них важнее всего Талмуд и часами напролет болтовня, а не действия. Что касается тебя, то мы все проверили. Один из наших был в Белжеце, помнит твою мать и твоих сестер, он ручается за тебя.
— Но не за Дова Лазаруса.
— За Лазаруса нет. Во всяком случае, мы будем его использовать. Нам потребуются деньги, много денег, а никто из добряков «Хаганы», «Моссада», «Иргуна» или «Штерна» не желает нам их дать. Мы должны выпутываться сами. Мы создали организацию, которая занимается контрабандой золота и лекарств. Я знаю: есть противоречие между той чистотой, что должна жить у нас в душах, и этими спекуляциями. Но и здесь тоже у нас нет выбора. В крайнем случае, хотя я и против, Лазарус сможет работать в этом отделении нашей организации. Я знаком с его личным делом: в Соединенных Штатах Америки он встречался с многими людьми из тех, кого там называют мафией, сотрудничал с гангстерами-евреями в Нью-Йорке, у него еще много знакомых среди них и их сицилийских друзей. Но давай поговорим о тебе. Ты не сможешь принять участие в нашей ближайшей операции. По крайней мере на ее первом этапе. Но ты говоришь по-французски, и даже, кажется, очень хорошо. Решено, что сразу же по окончании операции ее исполнители эвакуируются во Францию. Я хотел, чтобы ты занялся этим отходом, поехал во Францию и приготовил для них явки. Ты можешь это сделать?
— Мне понадобятся деньги.
— Они у тебя будут. Но посмотри сюда.
Взяв Реба Климрода за локоть, Буним остановил его. Реб поднял глаза и увидел здание за колючей проволокой; оно охранялось полицией. Он решил, «что это завод, но Аниелевич отрицательно покачал головой:
— Нет, пекарня. Они тут выпекают два сорта хлеба, который развозят каждое утро, мы, к счастью, не можем ошибиться: белый хлеб предназначен для американских, английских и польских солдат. Его мы, разумеется, трогать не станем. Зато круглый черный хлеб выдается только пленным. Они содержатся в бывшем Шталаге XIII. Там их тридцать шесть тысяч, сплошь эсэсовцы, против которых военная полиция союзников собрала улики. Мы надеемся уничтожить по крайней мере две трети. С помощью мышьяка.
Операция прошла в ночь с 13 на 14 апреля 1946 года; разыгралась сильная гроза, которая объясняет частичную неудачу. В предшествующие недели, однако, были приняты все предосторожности: двое из группы «Накам» сумели — скрыв, что они евреи — устроиться на работу в лагерь военнопленных: один шофером, другой кладовщиком; одновременно химики организации разработали порошок на базе мышьяка, по составу и цвету ничем не отличающийся от слоя муки, которым германские булочники посыпают свои изделия; этот порошок наносился на буханки хлеба; другим удалось устроиться на самом хлебозаводе, и они тайком вырыли под полом склада — где перед вывозом хранился хлеб — тайник, куда спрятали яд и необходимый инструмент. Яд был пронесен на завод в резиновых грелках, спрятанных под одеждой.
13 апреля, ближе к вечеру, трое мужчин укрылись в тайнике, откуда выбрались с наступлением темноты, после ухода персонала. Надев перчатки и обмотав марлей лица, они начали присыпать порошком хлеба. Начиналась гроза. Порывистым ветром выбило окно склада. Прибежали встревоженные полицейские. Они никого не нашли и решили, что это воры пытались выкрасть хлеб — привычное дело в те голодные времена. На следующий день проведенное полицией расследование все-таки вынудило «Накам» прекратить операцию.
16 апреля газеты Нюрнберга сообщили, что полиция обнаружила тайник и что пять тысяч пленных эсэсовцев отравлены.
Четыреста из них умерли.
Вместе с французским евреем по фамилии Мэзьель — случайным членом «Накам», из которой он вскоре после этого вышел — Ребу Климроду удалось снять большую квартиру в Лионе, в квартале Круа-Русс. В ней он на десять дней приютил четверых человек — исполнителей операции по отравлению в Нюрнберге, — которые не могли утешиться, что потерпели неудачу, успев отравить всего две тысячи хлебов вместо четырнадцати. Через неделю, 20 апреля, сам Буним Аниелевич появился в Лионе, где встретился с Жаком Мэзьелем и Ребом Климродом. Он просил последнего послужить ему гидом — а главное, переводчиком — в поездке по Бельгии и Германии. Мэзьель был свидетелем, что они уехали на рассвете, 26 апреля, на машине, которую он купил за счет организации
[«Накам» не была единственной организацией, предпринимающей карательные экспедиции подобного рода. Люди из Еврейской бригады, ликвидированной в Палестине англичанами, были разделены на два отряда, которые совершали рейды чаще всего в Австрию, используя в качестве базы итальянский городок Тарвиз. Но самой активной и самой упорной из всех организаций была «Накам»: потребовались энергичные действия полковника Наума Шадми, руководителя «Хаганы» в Европе, чтобы последние Мстители прекратили свои облавы. Шадми был вынужден отдать приказ похитить и силой доставить в Израиль самых неумолимых. Всего было убито около тысячи бывших нацистов, среди которых Йозеф Белки, Гюнтер Халлс и Алоиз Гавенда, известные палачи, действовавшие соответственно в Ченстохове (Польша), в гетто Варшавы и Загреба. Самые необычные замыслы «Накам» не были осуществлены: напасть на тюрьму Шпандау, чтобы прикончить Деница, Ширака, Шлеера и прочих редеров и гессов, которые отбывали там заключение, а главное — отравить всю сеть снабжения питьевой водой города Нюрнберга (здесь были провозглашены расовые законы). От этого последнего проекта, который повлек бы за собой заклание гражданского населения, отказались за несколько часов до начала его осуществления. Сам же Буним Аниелевич позднее погиб в Трансиордании (прим. автора.). ]
. Прошло почти пять месяцев, прежде чем Мэзьель снова увидел молодого человека, который, уезжая, оставил после себя в лионской квартире свои единственные тогда земные сокровища, две книги — томик «Эссе» Монтеня по-французски и «Осенние листья» Уолта Уитмена по-английски.
Реб Климрод вновь объявился в Лионе где-то в середине сентября в сопровождении Дова Лазаруса.
До этого был парижский эпизод.
Двумя часами ранее зазвонил телефон. Неизвестный спросил Дэвида Сеттиньяза. Служанка ответила, что его нет ни в Париже, ни во Франции, но случаю было угодно, чтобы в комнате оказалась Сюзанна Сеттиньяз. Она сама взяла трубку. Сообщила, что она бабушка Дэвида, спросила: «Вы друг моего внука?»
— Не совсем, — ответил медленный и серьезный голос Реба Климрода. — Мы познакомились в прошлом году в Австрии, и он оказал мне большую услугу. Мне хотелось бы снова встретиться с ним.
В 1946 году Сюзанне Сеттиньяз уже перевалило за шестьдесят. Она вдовствовала более десяти лет, не имея других детей, кроме отца Дэвида (он умрет в будущем году), и других внуков, кроме Дэвида. Состояние, которое оставил муж, разумеется, позволяло Сюзанне жить безбедно, хотя не избавляло ее от острого чувства одиночества. Она питала к Дэвиду столь исключительную любовь, что прошлой весной, хотя и не говорила ни единого слова по-английски, решила погостить в Бостоне. 9 сентября, проведя, как всегда, лето в своем доме в Экс-ан-Провансе, она возвратилась в Париж. Сюзанна предложила собеседнику, раз он друг Дэвида, нанести ей визит. Реб Климрод принял приглашение.
Он оглянулся, и глаза его задержались на маленькой картине, которая висела между двумя книжными шкафами из резного красного дерева, над диванчиком в стиле Директории. Холст был исполнен маслом и темперой, вероятно, во второй половине двадцатых годов; на нем были нарисованы различные предметы, в их запутанном сочетании узнавались лишь две рыбы из сиенской глины на голубом блюде.
— Пауль Клее, — сказал он. — У нас был почти такой же.
— У нас?
— У моего отца и меня. Мы жили в Вене.
Он улыбнулся, и вся его физиономия от улыбки прямо на глазах преобразилась. И до этого мгновенья черты его лица нельзя было назвать невыразительными; у него был вид человека, погруженного в какое-то внутреннее созерцание; впечатление это еще больше усиливали — и как усиливали! — светлые, огромные и бездонные глаза. Но он улыбнулся, и все стало иным. Он сказал:
— У вас великолепная квартира. И мой отец, конечно же, сказал бы о футляре, достойном своей жемчужины. Он любил делать подобные комплименты, вероятно, желая показать, что он истинный венец.
Он говорил с легким акцентом и мог бы сойти за француза из Эльзаса. Сюзанна Сеттиньяз почувствовала себя в замешательстве, как прежде ее собственный внук и Джордж Таррас. Она тоже испытала на себе это очень странное ощущение несоответствия между внешностью своего визитера (она сочла, что ему двадцать один год, тогда как Ребу еще не исполнилось и восемнадцати), простотой, даже бедностью его платья и одновременно тем чувством величия, что излучали его глаза, голос и вся личность.
Она задала ему множество вопросов о своем внуке, спросила, каким образом они познакомились. Он ответил, что они с Дэвидом встретились «в Австрии, в окрестностях Линца», сразу же после прихода победоносных союзных войск и в тот момент он, Реб Михаэль Климрод, находился «в трудном положении» (таковы были слова, которые он употребил) и Дэвид ему помог. И что они друг другу понравились.
Он непринужденно переменил тему разговора и принялся рассказывать о своих пяти-шести приездах во Францию; последний раз в апреле 1938 года. Сказал, что выучил французский с гувернанткой, которая родилась в окрестностях Ванд ома, и совершенствовал его, прожив целое лето в Париже и на вакациях в Довиле, Биаррице и на Лазурном берегу. Да, в Эксан-Провансе он был; он вспомнил бульвар Мирабо, площадь Альбертас и кафе «У двух холостяков», а также музей Гране, «где есть один Рембрандт и два Кранаха». Его познания в искусстве изумили Сюзанну Сеттиньяз, которая знала имя Клее лишь по той причине, что ее муж приобрел одно полотно художника.
Относительно Дэвида она сообщила, что он демобилизовался и возобновил изучение права в Гарварде. Она дала ему адрес своей невестки в Бостоне, где Дэвид должен находиться в это время года, если только он не задержался в летнем доме семьи, в Коннектикуте.
— Хотите, я запишу вам адреса и номера телефонов? Он, улыбнувшись, покачал головой:
— В этом нет необходимости. У меня довольно приличная память.
С этими словами он встал и начал прощаться с весьма спокойной и мягкой вежливостью.
Он улыбнулся, коснулся губами руки старой дамы и ушел. Но на следующее утро она получила записку вместе с одной розой. Мелким, сжатым почерком с изящными, но твердо очерченными прямыми линиями он просил извинить его за то, что не имеет возможности прийти еще раз, поскольку сегодня же вынужден покинуть Париж.
«Я встретила, — неделю спустя писала она Дэвиду Сеттиньязу, — самого непостижимого, самого странного, но и самого умного из всех молодых людей, каких я видела за свои шестьдесят пять лет. Если ты хоть что-нибудь способен сделать, с моей или без моей помощи, для Реба Михаэля Климрода, то сделай это, Дэвид. Мне кажется, что сейчас он находится в весьма жалком положении, хотя он ни слова об этом мне не сказал…»
12
Дов Лазарус, с облегчением вздохнув, опустился в плетеное кресло «Парижского кафе» на площади Франции в Танжере. «Тебе мартини?» Реб отказался. Лазарус заказал розовое мартини для себя (он недавно к нему пристрастился), чай с мятой для своего спутника. Он на идиш заговорил о золоте. В Танжер, говорил он, начало стекаться золото, оно поступает со всей Европы, даже из Швейцарии; в конце концов русские в Вене, и кто может сказать, будет ли их по-прежнему сдерживать швейцарский нейтралитет? Кроме того, рынки золота закрыты в Париже и Лондоне, а инфляция…
— Ты знаешь, что такое инфляция, малыш?
— Да, — равнодушно ответил Реб.
Восемнадцать ему исполнилось на пароходе «Дженне», где-то на полпути из Марселя в Танжер. По прибытии в марокканский порт, имеющий статус международного, Лазарус снял для них две комнаты в отеле «Минза», на улице дю Статю. Потом Реб в одиночестве расхаживал по бульвару Пастера, тогда как его спутник отправился на деловое свидание. Он постоял, опершись на балюстраду, откуда просматривалось все великолепие Гибралтарского пролива и мыса Малабата, бродил по Гран-Сокко…
— Ты слушаешь меня, малыш?
— Да.
— Непохоже. Реб, есть возможность сделать деньги. В законодательном собрании Международной зоны заседают три марокканских еврея. С одним из них я встречался. Скоро они примут решение распространить на чистое золото право получать проценты с фиктивного вклада, то есть каждый, живет ли он в Танжере или нет, сможет, не платя налога, положить на хранение любое количество золота. Только во Франции найдутся тысячи людей, которые из-за инфляции мечтают о золоте. Ты знаешь, какова разница между золотым слитком в Цюрихе и таким же слитком, например, в Лионе? Две тысячи франков. Можно из Танжера отправлять золото на маленьких самолетах, пользуясь бывшими аэродромами Французского Сопротивления…
— Я не умею водить самолет.
Старый официант, ему было лет семьдесят пять и он наверняка говорил на восьми — десяти языках, принес заказанные напитки и пачку сигарет, которую также попросил Лазарус. Жесткие, блестящие глазки Дова по-прежнему сверлили лицо Реба:
— Мы в плохом настроении, малыш? Молчание затягивалось. Серые глаза Реба выдержали взгляд Дова. Лазарус улыбнулся:
— У тебя нет ни гроша, нет семьи, нет угла, податься некуда. Без меня ты, наверно, с голоду бы подох. Я научил тебя всему. Даже твою первую женщину я уложил к тебе в постель. Верно?
— Верно.
— Ты убивал людей с этим Аниелевичем?
До новой встречи с Довом Реб Климрод слонялся по базарам, поднявшись с нижнего края улицы дю Статю, сплошь заросшей гибискусами и драценами, которым, как утверждали, было восемь столетий, до крытых ворот Мандубии. Он увидел человека и, несмотря на штатский костюм, усы и отросшие волосы, сразу же его узнал. Накинув на руку пиджак, протирая шею носовым платком, человек, улыбаясь, что-то говорил английским морякам, которые тоже торговались с уличным менялой перед воротами Шеммарин. Это не был ни Эрих Штейр, ни Хохрайнер. Реб Климрод, у которого была «довольно приличная память», видел его однажды, четыре года назад. Это произошло в Белжеце, 17 июля 1942 года. Этот человек затесался в ряды евреев, которых доставили из Львова, и, разговаривая на почти безукоризненном идиш, попросил их всех написать письма своим семьям, чтобы успокоить их, сообщить, что обращаются с ними хорошо, что их высылка в конечном счете не так уж страшна…
— Ты мне не ответил, — сказал Дов Лазарус.
— Нет.
— Неужели ты никого не убил?
Реб улыбнулся, мягко покачав головой:
— Я же тебе не ответил.
Он взял своими тонкими пальцами пачку «Филипп Мориса».
— Я говорил с людьми на базарах. По-итальянски они называют это U Fumu, дым. Они уверяют, что можно заработать много денег, и на этом тоже.
Именно Дов Лазарус финансировал первую операцию, которая была проведена во второй половине октября. Потом они осуществили еще десять, все через Испанию. Техника этих операций была проста, стоило только заполучить какое-нибудь судно: светлые сигареты, поступавшие из США, официально находились в Танжере транзитом, их покупали по тридцать французских франков за пачку, а чтобы совершенно легально их вывести, достаточно было указать порт назначения, куда законом разрешался ввоз табака, чаще всего Мальту. Далее в море, где торговля свободна, назначали место встречи вне территориальных вод с испанскими покупателями из Валенсии, перекладывая на иберийцев риск столкновения с таможней Франко. Опасность была нулевой, а прибыли весьма удовлетворительными: пачку сигарет, купленную в Танжере за тридцать франков, можно было перепродать за пятьдесят — шестьдесят. И так как за один рейс иногда брали по пятьдесят ящиков, то есть двадцать пять тысяч пачек, то прибыли от одной экспедиции могли достигать пятисот — шестисот тысяч франков, то есть, при курсе доллара в сто двадцать франков, где-то четыре-пять тысяч долларов. Не было ничего удивительного, что за свою долю в этой коммерции, которая еще не попала в лапы крупных мошенников, шла драка: среди прочих опереточных контрабандистов расталкивали друг друга локтями бывшие офицеры Английского королевского флота, будущий французский министр, британские или итальянские аристократы и даже экипаж, составленный из одних лесбиянок, плавающий под розовым флагом.
После шести первых плаваний Реб Климрод оказался в состоянии вернуть Лазарусу его первоначальный капитал. «Ты не должен этого делать, — заметил Дов, — я у тебя ничего не просил». «Я так хочу», — просто ответил Реб. При этом обмене репликами присутствовал еще один человек, француз по имени Анри Хаардт, мечтающий о приключениях и лишь ради этого приехавший из Ниццы в Танжер. Хаардт и Климрод встретились случайно, у полок книжного магазина «Колонн», в нижней части бульвара Пастера. Житель Ниццы, который у себя в стране был лиценциатом истории, первым завел разговор о книге, что листал юный верзила, — о «Закате Европы» Шпенглера, которую ему самому удалось дочитать почти до конца. Во время пустой беседы, продолженной на соседней террасе кафе «Кларидж», несмотря на разницу в возрасте (тогда Хаардту было тридцать), открытие, что юному читателю Шпенглера исполнилось лишь восемнадцать, потрясло Хаардта, а сообщение о том, что тот «занимается сигаретами», живо заинтересовало. У Хаардта на сей счет были свежие мысли, и он не настолько оторвался от жизни, чтобы не видеть перед собой «великий путь американских сигарет», связывающий Танжер с берегами Франции и Италии, где можно было перепродать пачку «Филипп Мориса» и прочих «Честерфилдов» даже за сто франков…
— Если вместо пятидесяти ящиков за один рейс мы возьмем пятьсот или тысячу — все дело в судне, — прибыли очень быстро могли бы стать сказочными. Миллион долларов в год не покажется столь невероятным…
Хаардт удивлялся своему упрямому желанию убедить мальчишку стать его компаньоном. Мальчишку, который колебался, это было очевидно. Разумеется, не из-за недостатка дерзости или честолюбия, из-за чего-то другого.
— Из-за твоего ирландского друга? Из-за него?
— Не совсем так.
— На худой конец, — наконец сказал Хаардт, — мы могли бы объединиться все трое. Хотя…
Ему не нравился Дов Лазарус (он знал его лишь под фамилией О’Си, псевдонимом, которым Дов давно пользовался в Танжере), а на самом деле он его боялся. Два-три раза он видел, как Дов круто разговаривает по-английски с сомнительными итало-американцами, упоминая имена Хайми Вейса, Мейера Ланского, Лепке Бухалтера или Луки Лючано так, как ветераны говорят о своих бывших командирах. Хаардт обладал пылкой страстью к авантюрам, правда, в разумных пределах. Этот Лазарус-О’Си казался ему «off-limits», диким, так же как ему казался определен но противоестественным несвязный тандем, который он составлял с молодым «Юбрехтом». Несвязным и опасным.
В общем, Хаардт держал себя как старший брат. Сам не зная, почему.
Он был ни при чем в деле Лангена. Просто свидетелем, даже не прямым.
— Голландцы, — сказал Лазарус. — Одного зовут Ланген, а другого Де Гроот или что-то в этом роде. У одного из них диплом капитана дальнего плавания, а нам нужен настоящий капитан, так ведь? На этот раз надо пересечь Средиземное море, но не затем только, чтобы махать ручкой сеньоритам, идя вдоль испанского берега. Де Гроот — тот малый, что нам нужен. Что до матросов, то в экипаж войдут мальтиец и трое сицилийцев.
— И мы, — заметил Реб.
— И мы. Всего восемь человек. При разгрузке девятисот ящиков лишними мы не будем. На месте нам поможет бригада…
— И куда мы пойдем?
— На Сицилию. В бухту к западу от Палермо. Ты что-то имеешь против, малыш? Ты думал, что мы еще долго будем играть в детские игры? Теперь мы займемся серьезными делами. Пошли, я представлю тебя голландцам…
Анри Хаардт уже находился в «Парижском кафе», сидя за столиком с одним из своих друзей — офицером таможни, корсиканцем, который на правах знатока извергал на него множество советов о тысячах способов использовать себе на пользу столь приятные преимущества международного статуса Танжера. Он видел, как подошли Климрод и Лазарус, которые устроились в нескольких метрах от него, вместе с двумя мужчинами лет тридцати пяти, сидевшими к нему спиной. Реб Климрод и его спутник в очках заняли места напротив, он мог видеть их лица. Главное, он успел заметить едва уловимую, внезапную жесткость серых глаз, которые на несколько секунд расширились; не ускользнул от него и любопытный жест Климрода, который нагнулся и почти засунул голову под стол, чтобы завязать шнурки на ботинке, в чем не было никакой необходимости, прежде чем выпрямиться с вновь совершенно невозмутимым лицом. И благодаря взгляду, который он бросил на Дова Лазаруса, Хаардт понял, что тот тоже кое-что заметил. Прошло двадцать — тридцать минут, после чего оба незнакомца встали и ушли…
Дов Лазарус вполголоса сказал на идиш:
— Не строй из себя обиженную девочку, малыш. Я видел, как тебя перекосило, Ты знаешь одного из этих типов?
Реб положил руки на колени и, словно завороженный, смотрел на них. Наконец произнес:
— Один по крайней мере не голландец.
— Кто?
— Ланген.
Глаза Дова Лазаруса за стеклами очков сверкали блеклым холодом голубых алмазов. Он швырнул на стол банкноту и встал: «Пошли отсюда». Два месяца назад Дов купил двухцветный «паккард» с откидным верхом. Он сел за руль и поехал по дороге на мыс Малабата; Реб сидел рядом. Они не перемолвились ни словом; подъехав к маяку, Лазарус выключил мотор, вылез из машины и пошел к террасе, откуда открывался вид на Танжер, Атлантический океан и Испанию.
Его жест был таким быстрым, что, казалось, он даже не шевельнулся, хотя кольт сорокапятимиллиметрового калибра оказался в его правой руке, которую он придерживал левой. Он выстрелил один раз, и метрах в двадцати от них упала чайка, сбитая влет. Лазарус по-прежнему улыбался.
— Когда мы приехали в Танжер, я задал тебе вопрос. Хотел знать, убивал ли ты людей с этим meshuggener (чокнутым) Аниелевичем. Ты мне не ответил.
С той же поразительной ловкостью он снова изготовился для стрельбы, взяв на мушку другую чайку. Но не выстрелил.
— Ты хотел бы убить этого Лангена, Реб?
— Не знаю, — с невозмутимым спокойствием ответил Реб. Лазарус опустил руку: кольт, засунутый за пояс, снова обрел свое место под пиджаком, сзади, над правой ляжкой.
— Поедем, малыш. Мы совершим это плавание к берегам Сицилии вместе с Де Гроотом и твоим другом Лангеном. Я бы сильно удивился, если бы и этот самый Гроот оказался голландцем. Вероятно, он тоже один из них, Реб. Ланген может трепаться в Танжере, что он голландец, но неужели ты веришь, что настоящий голландец будет вести себя как идиот? Или же он, но на другой манер, тоже влип, ведь эсэсовцы у них были даже в Голландии…
Впервые с тех пор, как они стали работать вместе, Дов прикоснулся к мальчику, погладил его по затылку и, взяв за руку, повел к «паккарду»:
— Во всяком случае, ты не мог бы убить его в Танжере, малыш, поверь мне. Нас видели вместе с Лангеном, а Танжер не так уж велик. Зато на Сицилии умирают легко…
Он завел мотор и улыбнулся:
— Там ты его и убьешь, Реб.