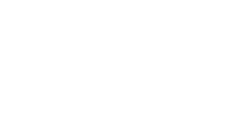15
Аркадио Алмейрасу было в то время пятьдесят шесть лет. Он мечтал стать художником и вместе с Эмилио Петторути был им лет пять-шесть в начале двадцатых годов; он ездил даже в Берлин, чтобы встретиться с Клее, и прекрасно помнил о трех-четырех визитах, которые нанес Кандинскому в Веймаре. Но это было в те времена, когда он надеялся, что обладает толикой, крохотной толикой таланта. «Хотя нет у меня и ее. Пустыня Гоби». Он спросил:
— А кто, по вашему мнению, это нарисовал? Высокий молодой человек пожал плечами:
— Фамилия художника вроде бы Кандинжки. Но картина стоит довольно дорого, я в этом уверен. Не меньше тысячи долларов.
Он говорил на вполне правильном, хотя несколько спотыкающемся испанском.
— Вы француз?
— Бельгиец, — ответил молодой человек.
Алмейрас взял маленький холст и поставил его на пороге входной двери, под бледный дневной свет. Эта аргентинская зима была печальна. Он разглядывал картину. Художник очень часто в фамилии Кандинский писал s на манер j. Алмейрас улыбнулся хорошенькой молодой женщине, которая в этот момент проходила мимо его галереи на калье Флорида в Буэнос-Айресе. Он обернулся и сказал:
— Это Кандинский, русский художник, который недавно умер в Париже. И вы правы, этот холст дорого стоит. Во всяком случае, больше тысячи долларов. Вы действительно хотите его продать?
— Мне нужны деньги. Но я его не украл.
Он показал документы, которые, впрочем, мало что значили, где констатировалось, что картина была законно приобретена в Мадриде годом ранее у некоего Маурера и не менее законным образом доставлена из Мадрида в Буэнос-Айрес. Алмейрас заметил:
— Вы упоминали и другие картины…
— Целых четыре, — сказал молодой человек. Он вытащил из кармана крохотную записную книжечку, раскрыл ее на нужной странице и протянул Алмейрасу, который прочел: «3 июля 1946 г., Мадрид. У Гюнтера Маурера из Берлина куплено пять картин. Клее. Ф. Марк. Кондинжки, Ф.Марк. А.Макке. Заплачено 1200 американских долларов».
— Вы действительно заплатили тысячу двести долларов за пять этих холстов?
— Он просил за них пять тысяч, но спешил продать.
Алмейрас закрыл глаза. «Тысяча двести долларов за колет Клее, два холста Марка, холст Кандинского, работу Аугуста Макке! Эти европейцы и впрямь с ума посходили!»
— И вы намерены все их продать?
— Я не решил, — ответил молодой человек. — Может быть, позднее…
— Или в том случае, если вам сделают выгодное предложение.
Худое, довольно выразительное лицо молодого человека, его светлые глаза заметно смягчались при улыбке.
— Вот именно.
Они условились, что Алмейрас на несколько дней оставит у себя холст Кандинского. Алмейрас очень хотел бы посмотреть четыре других полотна, хотя бы ради собственного удовольствия, но молодой человек сказал, что с собой у него их нет, что они даже не в Буэнос-Айресе, вообще не в Аргентине. Он их оставил на хранение у своего брата в Боготе. Да, у него в Боготе семья — отец, мать и три сестры. И совсем скоро он к ним едет.
— Вы говорите по-немецки? — спросил Алмейрас.
Лишь несколько обиходных слов, ответил он. «Jawhol», «Kommen Sie mit mir»
[Искаженное от немецкого «да»; «следуйте за мной».]
и так далее. Он очень мило рассмеялся.
— «Der Blaue Reiter», — сказал Алмейрас. — «Синий всадник». Так называлась группа художников перед Великой войной 1914 года. Кандинский, Марк, Макке и Клее — все входили в нее. Любитель был бы наверняка заинтересован в покупке ваших пяти холстов сразу. Это уже почти своего рода собрание, вы понимаете?
— Понимаю, — сказал молодой человек.
— …Особенно для аргентинцев немецкого происхождения. У нас в Аргентине много немцев, особенно с недавних пор, — Алмейрас усмехнулся, — Франц Марк и Аугуст Макке, оба они погибли во время войны 1914 — 1918 годов. Их холсты очень ценятся коллекционерами. Они погибли, не успев создать много работ. А для людей немецкого происхождения покупать эти полотна все равно, что — как бы сказать? — все равно, что совершать какое-нибудь патриотическое дело…
— Я понимаю, — с улыбкой повторил молодой человек. — Согласен продать все пять холстов, если будет выгодное предложение. И спасибо за вашу честность. Я этого не забуду.
Нет, он не может сообщить свой адрес в Буэнос-Айресе, но он еще раз зайдет в галерею. Меня зовут Анри Хаардт, сказал он в ответ на вопрос, который на прощанье задал ему Алмейрас.
Семнадцатый день наблюдения стал днем, когда объявился Эрих Штейр.
Диего Хаас был аргентинец, он родился в Аргентине от отца, происходившего из Каринтии, и матери, урожденной (об этом она никогда не забывала напоминать) де Карвахаль и прочая, прочая, прочая. Маленький рост этого молодого толстощекого блондина был обратно пропорционален его цинизму, который достигал абсолютных высот, а веселая наглость нрава граничила с чистым безумием. Владея немецким и английским языками — кроме, естественно, испанского, — он продолжал изучать право, не в силах окончательно с ним совладать, и недавно был взят в секретари богатейшим немецким иммигрантом по имени Эрих Штейр. На дворе стоял сентябрь, и минувшие пять месяцев службы окончательно раскрыли перед Диего сущность его патрона: Штейр Эрих Иоахим был очень богатым, очень умным, очень образованным, очень элегантным и утонченным, но при этом оставался самым мерзким (это же очевидно, Диего!) из негодяев, по части подлости наверняка идя в группе лидеров. Диего с изысканной вежливостью адресовал Штейру улыбку:
— Сеньор, я никогда не слышал об этом Кандинском. Но я готов считать его восхитительным.
Он равнодушным взглядом посмотрел на картину и воскликнул:
— Восхитительно!
После чего вышел из галереи на улицу, чтобы поглазеть на сеньорит. Совсем рядом стояла машина Штейра с шофером Штейра и телохранителем Штейра. Штейр не жил в Буэнос-Айресе. Сразу по приезде в Аргентину он приобрел — кстати, с помощью Диего — роскошное estancia
[Estancia (ucn.) — поместье.]
в окрестностях Кордовы; не прошло и недели после покупки, как было доставлено бесчисленное множество ящиков, содержащих сказочные сокровища. Даже Диего Хаас, который гордился своим бескультурьем, пришел в восторг, увидев столько диковин, одновременно Штейр закладывал основы своего будущего в Аргентине, вернее, в Латинской Америке: он станет консультантом по капиталовложениям своих несчастных соотечественников, которых изгнало с родины мировое еврейство. «Яволь», — ответил невозмутимый Диего, которого мало трогала эта экзальтация: он считал ее наигранной (Штейр был слишком умен, чтобы принимать всерьез подобный вздор; для Диего Штейр был сволочь, и ничего больше, аминь!). Поэтому они действительно объездили всю Аргентину и соседние страны, вплоть до Венесуэлы, Чили и даже Колумбии, побывав в Боготе.
5 ноября 1947 года Алмейрас сообщил Штейру, что владелец пяти полотен, которые последний хотел приобрести, наконец-то ответил согласием.
Штейр вместе с Диего Хаасом выехал в Колумбию якобы для деловых встреч, рассчитывая сразу убить двух зайцев.
В Боготу они прибыли 6 ноября 1947 года.
— Богота мне внушает ужас, — разглагольствовал Диего Хаас. — Впрочем, я презираю и Сантьяго. И Каракас. И Лиму. Ла-Пас и Кито. Я едва переношу и Буэнос-Айрес. Не говоря об Асунсьоне, который вызывает у меня омерзение, и о Каракасе, который я просто ненавижу. Действительно, кроме Рио, хотя там и не говорят по-испански…
— Не будете ли вы любезны закрыть вашу слишком болтливую пасть, — вкрадчиво попросил Штейр, как всегда не повышая голоса. Сидя на заднем сиденье машины, он читал, погрузившись в какую-то папку с документами. Машину вел шофер-колумбиец с профилем черепахи; справа от него устроился телохранитель, некий Грубер, которого Диего считал ничуть не умнее коровы (а о коровах Диего был невысокого мнения). Сам Хаас обосновался сзади, рядом с адвокатом.
— Я не слишком хорошо знаю Европу, — продолжал Диего, ничуть не смутившись грубым окриком хозяина. — Так, несколько юбчонок кое-где. Я почти уговорил Мамиту — мою маму — дать мне денег, чтобы год-другой пожить в Париже, когда вы, нацисты, тоже стали заниматься там туризмом. Я по-своему жертва Третьего рейха.
Час назад прибывший из Каракаса самолет высадил троих мужчин в аэропорту Боготы Эльдорадо…
— Хаас, еще одна из ваших глупых шуток, и я попрошу Грубера набить вам морду. Что он сделает с радостью.
…а сейчас они подъезжали к центру города.
Итак, в центре Боготы они оказались в начале пятого 6 ноября. В Боготе моросил мелкий, пронизывающе холодный дождь, что, несомненно, объяснялось местоположением столицы — более двух тысяч шестисот метров над уровнем моря. Они сразу направились в свой отель, расположенный рядом с дворцом Сан Карлос, где когда-то жил Боливар. В регистратуре Штейра ждала записка. Написана она была по-испански и подписана неким Энрике Хаардтом. Диего ее перевел.
— Он пишет, что если вы по-прежнему желаете купить эти картины, то каждый день сможете его найти после шести часов вечера по адресу: каррера де Баката, 8, в квартале Чанинеро.
Сначала Штейр намеревался отложить это дело на завтра, а затем, влекомый, как считал Диего, своей лихорадочной жаждой увидеть наконец эти полотна — он ждал этого целых два месяца, — решил ехать в тот же день, вечером, Хаас помнит, что они подъехали к дому № 8 по каррера де Баката в восемнадцать часов пятнадцать минут. Перед ними был совсем новый жилой дом, который, казалось, даже еще не заселили, хотя едва они подошли к двери, как появился мужчина и сообщил им, что, действительно, квартира на шестом этаже уже занята. Именно эль сеньором Энрике Хаардтом, и эль сеньор Хаардт только что пришел, а значит, у себя.
Надо дать представление об этом доме, чтобы понять все, что произошло дальше.
Войдя в дом, вы сперва оказывались в первом узком холле — отсюда можно было попасть в подвал и помещение привратника, — имевшем продолжение в виде лестницы, первый пролет которой заканчивался площадкой. С нее налево еще шесть ступенек вели в другой холл, куда выходили и две клетки лифтов, и запасная лестница.
Путь, как обычно, прокладывал Грубер, а следовательно, он первым и подошел к лифтам. Грубер опережал Штейра на три метра, а Диего Хааса и того больше; последний остановился перекинуться парой слов со сторожем и нашел его «странным»…
Хаас услышал три выстрела, но в тот момент не понял, кто стрелял. Он как раз поднялся по первому пролету лестницы и уже намеревался вступить на промежуточную площадку. Он застыл в растерянности, совсем не зная, чего ему больше хотелось: пойти взглянуть, что происходит, или, наоборот, по-быстрому свалить под тем предлогом, будто бежит за помощью». События не оставили ему выбора: над ним нависла чья-то высокая фигура и спокойно скомандовала по-испански:
— Вызовите сторожа, скажите, чтобы шел сюда. Произошел несчастный случай.
Хаасу не пришлось никого вызывать: сторож сам слышал выстрелы (но шофер-колумбиец, который привез Штейра и двоих его спутников, не слышал: за это время наружную дверь заперли). Хаас, определенным образом успокоенный невозмутимостью незнакомца, преодолел последние ступени.
Он вышел на вторую площадку. Грубер лежал на полу, прижавшись к металлической двери одного из лифтов; возникало странное впечатление, будто он, прислонив щеку к металлу, слушает какой-то подозрительный шум. Но из его затылка лилась кровь.
Эрих Штейр, невредимый, стоял в нескольких метрах от Грубера, подняв руки вверх, с выражением испуганного изумления на лице.
— Ложись на пол, — донеслось до Диего Хааса. Он тут же исполнил Команду, как и сторож, который, едва переводя дух, в это мгновенье взбежал на площадку. Длинная костлявая рука мелькнула перед глазами Диего и принялась его обыскивать.
— Пожалуйста, без щекотки. Я ее боюсь. Оружия, слава Богу, нет. При моем уменье, я бы порезался даже маникюрными ножницами.
— Мне от вас ничего не нужно, — серьезно сказал незнакомец. — С вами ничего не случится, если вы будете вести себя смирно.
— Я буду тих, как ангел, — обещал Диего со всей убедительностью, на какую был способен. — Во всяком случае, я уже раньше решил провести вечер, лежа ничком на животе.
Незнакомец обыскал и сторожа, но безрезультатно. Наступила тишина, а когда незнакомец снова заговорил, до Диего донеслась немецкая речь:
— Ты узнаешь меня, Эрих?
— Да, Реб Климрод, — ответил Штейр. — Ты сильно вырос. Тишина.
— Она погибла в Белжеце, Эрих. Как Мина и Кати. Ты специально просил отправить их в Белжец или же предоставил право выбора эсэсовцам во Львове?
— Специально я лагеря не выбирал. Реб, тот молодой блондин, которого ты уложил на пол, понимает все, что мы говорим. Иначе говоря, тебе и его придется пристрелить.
— И я был в замке Хартхайм.
— Это я просил Эпке показать тебе, если он их найдет, фотографии, перед тем как тебя убить. Он сделал это?
— Да.
Снова тишина. И опять послышался голос Штейра:
— Я не боюсь, Реб. Что бы ты со мной ни сделал.
— Прекрасно.
— Каким образом ты меня разыскал?
— Благодаря, почтовой открытке, которую ты послал жене из Буэнос-Айреса, сообщая, что добрался благополучно. Однажды ночью я произвел у нее обыск. Тогда я не обратил на открытку внимания. Но потом вспомнил о пьесе, что ты написал, той, чье действие происходит в Венеции. Одного из твоих героев тоже звали Тарантелле, как и отправителя открытки.
— Иметь литературные претензии небезопасно, — заметил Штейр. — У тебя в самом деле есть полотна Клее, Марка и Макке?
— Нет. Во всяком случае, нет с тех пор, как ты их украл. Иди в лифт, Эрих. В правый.
— Все в Кордове, Реб. Абсолютно все. Будь у меня время, я мог бы сделать, чтобы все вернулось к тебе законным образом.
— Иди.
— Если я умру, ты потеряешь все, Реб. Все, что принадлежало твоему отцу, которого ты так любил.
Четвертый выстрел заставил Диего Хааса приподнять голову. Он увидел Штейра, который по-прежнему стоял, но скорчив гримасу от боли и удерживаясь лишь на одной левой ноге: пуля раздробила правое колено.
— Не старайся заставить меня просто пристрелить тебя, Эрих, тебе это не удастся. Заходи в лифт.
Штейр пошел, подпрыгивая на здоровой ноге и держась за стену.
— Вы действительно говорите по-немецки?
Несколько секунд Диего Хаас даже не соображал, что вопрос обращен к нему. Он даже не попытался солгать.
— Свободно, — ответил он. — Но я всегда ездил в Европу лишь для того, чтобы проверить, что там у дам под юбками.
Он впервые увидел лицо человека, которого Штейр называл Реб Климрод; его черты были искажены пугающей гримасой ненависти и отвращения. Но голос по-прежнему оставался фантастически спокойным:
— Встаньте, пожалуйста, и подойдите сюда.
Хаас поднялся с пола. Он увидел кабину лифта, которая сперва показалась ему ничем не примечательной. И лишь потом он заметил, что ее стенки были сделаны из блестящих стальных пластин так, словно нарочно забыли поставить прочую гарнитуру.
И в кабине на уровне человеческого роста висели в ряд три фотографии; на всех был изображен один и тот же человек, который полз по полу — наверное, в каком-то подвале, — широко раскрыв рот, искореженный страданием.
— Это мой отец, Иоханн Климрод. Всмотрись в него, Эрих. У тебя будет на это время.
Штейр вошел в кабину и упал на пол в углу. Он попытался, наверное, что-то сказать, но стальная дверь задвинулась и Щелчок замка заглушил его голос. В закрывшейся двери было сделано застекленное окошечко размером в две человеческие ладони. Очень скоро в нем показалось лицо Эриха Штейра. Хаас видел, как шевелятся его губы, производя неслышные звуки.
— Как вас зовут?
— Хаас. Диего Хаас.
— Отойдите. Я не хочу причинять вам боль. Сядьте подальше, вместе с другим человеком. Он вовсе не сторож и ни за что не несет никакой ответственности. Он ничего не знал о том, что я сейчас намерен сделать. Сидите оба смирно.
Сказав это, Климрод принялся за работу. Из кабины запасного лифта он вытащил холщовую сумку и концы электроприводов. На секунду он замешкался; его светлые глаза широко раскрылись, губы дрожали, казалось, он сейчас расплачется. Но он подключил провода, и только тут Хаас заметил кровь, стекающую по тыльной стороне его левой ладони, потом окровавленную дырку в куртке над локтем: «Его задела пуля Грубера».
Казалось, что подключение проводов ничего не дало. Не было искры, вообще ничего заметного.
Отступив на шаг, Климрод пристально посмотрел в окошечко. Однако спустя несколько секунд коснулся пальцами стальной двери лифта. Жест, который он повторял много раз в течение последующих минут в абсолютном молчании Вплоть до того мгновенья когда он, даже не повернув головы по-немецки обратился к Хаасу:
— Подойдите потрогайте.
И Хаас снова подчинился. Он протянул дрожащую руку, но тут же ее отдернул: сталь сильно нагрелась.
— И это еще не все, — сказал Климрод отрешенным, каким-то мечтательным голосом. — Через минуту металл раскалится докрасна…
Лишь после этого он нажал на кнопку. Послышался приглушенный звук, характерный для работающих лифтов, хотя стальная кабина пошла вверх бесконечно медленно, почти незаметно, должно быть, в минуту на сантиметра два-три.
Затем Климрод достал из холщового мешка восемь серебряных подсвечников и столько же свечей.
Он поставил их в ряд перед кабиной, стальная обшивка которой начала слегка краснеть. Диего Хаас больше не решался заглянуть в окошечко.
— Восемь подсвечников, восемь огней, — сказал Климрод. — По две на каждого члена моей семьи…
Поставив свечи, он одну за другой зажег их. Глаза Штейра, смотрящие в окошечко, — лицо его словно расплавилось от боли, — казалось, тоже вспыхнули. Диего почудилось, что Штейру хотелось что-то сказать. Климрод сделал еще шаг назад и начал что-то читать нараспев на языке, который Диего Хаас сперва не мог определить.
Когда он кончил чтение, над желтым пламенем свечей, под раскалившейся докрасна кабиной, возникла пустота. Лифт шел вверх; его стальная обшивка раскалялась все больше и больше. Диего Хаас, охваченный дрожью ужаса, опустил голову.
— Встаньте, пожалуйста. Оба.
Приказ был отдан по-испански.
Он велел им спускаться вниз по первому, короткому пролету, потом — по прямой лестнице. Они уже были посередине лестницы, когда их заметил шофер-колумбиец.
Две пули, пущенные Ребом Климродом, прошли слишком высоко над головой мужчины, который тем не менее не пожелал служить мишенью и скрылся в проеме наружной двери.
— Сюда.
Они попали в квартиру сторожа.
— Зайдите сюда, пожалуйста, — приказал Климрод сторожу. После чего, повернув ключ, запер дверь стенного шкафа. Зато Диего Хааса толкнул вперед. Они подошли к другой двери, от которой у Климрода был ключ, оказались на улочке, где стоял «Фольксваген».
— Сядьте за руль, пожалуйста. Моя рука будет мне мешать. Надеюсь, что вы умеете водить машину.
Позади них раздался топот бегущих ног: это бежал шофер. Одна из пуль пробила зеркало заднего обзора и рикошетом задела правое крыло. Климрод пару раз выстрелил в ответ, вероятно, не желая поражать цель.
— Поезжайте, прошу вас.
Пули еще раза два царапнули кузов, но Хаас, развернувшись на полной скорости, вывел машину из-под обстрела. Очень быстро они выехали на авенида Каракас. Хаас спросил:
— И куда мы едем?
— В аэропорт.
— Шофер сообщит в полицию. А сеньор Штейр имел здесь очень могущественных друзей.
— В аэропорт!
— Прямо волку в пасть, — возразил Диего.
Он начал приходить в себя, вновь обретать всю свою бойкость, хотя еще и чувствовал ужас той сцены, свидетелем которой ему довелось стать. Он спросил:
— Что такое вы читали перед свечами?
— Кадиш — еврейскую заупокойную молитву.
— Значит, вы еврей?
— Теперь нет, но некоторое время был им, — ответил Климрод…
…и вдруг закричал: «С-Т-О-Й-Т-Е!»
«Фольксваген» выезжал на просторную эспланаду, и ему наперерез мчались две машины из военной полиции.
— Разворачивайтесь. Скорее, прошу вас.
— Зовите меня Нуволари, — попросил Диего.
И он сделал такой бешеный разворот, словно от этого зависела его жизнь. «Конечно, от этого она и зависит, тройной ты дурак! Если этот верзила с тихим, наводящим ужас голосом и светлыми глазами сам не убьет тебя, то policia militar
[Policia militar (ucn.) — военная полиция.]
непременно начинит тебя свинцом, они стреляют по всему, что движется…» Он на полной скорости понесся в сторону ипподрома Техо. Он переживал самые волнующие минуты в своей жизни.
Ибо и справа, и слева, и сзади внезапно появлялись другие машины, а Диего, увлекшись этой игрой, с необъяснимой легкостью делал все возможное, чтобы оторваться от них, ценой какой-то исступленной гонки…
…вплоть до той секунды, когда по приказу Климрода ему пришлось нажать на все тормоза. Он даже не успел понять («Все готово, не волнуйтесь», — сказал ему Климрод своим тихим голосом), как оказался за рулем грузовика и уже мчался на запад, встречая по пути полицейские машины, преследующие «Фольксваген»…
Спустя совсем немного времени дорога головокружительно пошла вниз, превратившись в непролазно грязную тропу, которую с трудом можно было разглядеть сквозь серую пелену лившего как из ведра дождя; на каждом повороте фары выхватывали из темноты то стену заросшей лесом скалы, то пугающую пустоту пропасти. По крайней мере десяток раз, неуклюже нажав на тормоза, Диего Хаас чувствовал, что грузовик, увлекаемый чудовищной силой инерции, начинает скользить по желтой грязи прямо к бездне. И всякий раз благодаря чистому чуду ему удавалось не потерять управление. «Я не смогу остановиться, даже если захочу. Это последнее падение, Диегуито!»
Лишь после нескольких часов этого безумного спуска вдруг возникло какое-то подобие маленькой площадки. Хаас резко крутанул руль, привстав, нажал на тормоз, что не помешало грузовику крепко врезаться в скалу.
Но он наконец-то остановился.
Они одновременно спрыгнули на землю. В уголке скалы находилась ниша с лазурно-золотой статуей пресвятой Девы, у ног которой стояли в консервных банках цветы, а также иконки, благодарящие Мадонну за то, что она позволила шоферам грузовиков и водителям автобусов уцелеть после такого адского спуска.
— Все ясно, — весело сказал Диего Хаас. — Просто я не такой уж плохой водитель, в сущности…
Он обернулся и увидел, что Реб Климрод плачет, прижавшись лбом к скале.
После этой и еще одной остановки (они ее сделали, чтобы заправиться бензином) им понадобилось добрых четыре часа, чтобы добраться до маленького городка Вильявисенсио, расположенного двумя километрами ниже Боготы. За время их общей безумной гонки между Климродом и Хаасом установилось некое весьма странное согласие. При выезде из Вильявисенсио — ехали они на восток — Реб Климрод спросил, где они находятся и что их ждет впереди. Диего Хаас расхохотался:
— Я никогда не был слишком силен в географии. Как, впрочем, в истории, в испанском, в иностранных языках, в физике и химии, а также в математике. А заботами Мамиты я навсегда был освобожден от гимнастики. То, что в этих условиях мне почти удалось получить звание лиценциата права, представляет собой, несомненно, один из самых отвратительных скандалов во всемирной истории университетов. Ну ладно. В общем, справа нет ничего. Слева — полная пустота. А прямо перед нами и того хуже.
— То есть?
Диего протянул руку, подумав при этом: «Все, что ты сейчас делаешь, мой маленький толстенький Диего, по-моему, выглядит историческим событием». Он сказал:
— Вы пройдете примерно две-три тысячи километров и в какой-то момент повернете направо. Это будет Амазонка. Там вы сядете за весла и, теоретически, проплыв еще тысячу километров — это займет около месяца, — вы достигните Атлантики. Там вам не останется ничего другого, как вернуться в Австрию.
Он поднял глаза и снова вздрогнул, увидев это худое, испепеленное какой-то внутренней страстью лицо.
— Они будут преследовать вас, — продолжал он, тут же пожалев о своей предшествующей выдумке. — Только у нас, в Аргентине, они вложили более ста миллионов долларов. Таких людей, как Штейр, полно повсюду, на всем континенте, и я слышал разговоры об организации, которая доставит нам сюда еще и новеньких. Они не могут оставить безнаказанным то, что вы сделали со Штейром, это может заронить кое-какие мысли в головы других людей. Сторож дома…
— Это был не сторож. Я платил ему, чтобы он играл эту роль, но больше ничего он не знал. Он считал, что участвует в розыгрыше. Не обвиняйте его, пожалуйста.
— Он говорил по-немецки?
— Нет.
— Значит, он не мог понять, о чем вы говорили со Штейром… — Диего улыбнулся, сверкая желтыми глазами: — В общем, я единственный свидетель, единственный, кто знает вашу фамилию…
Он схватил Реба Климрода за руку, силой заставив его из-за пояса сорокапятимиллиметровый маузер, и руку на себя до тех пор, пока ствол не уперся ему в висок:
— Бах! — весело сказал он. — Но мне было бы грустно, не скрою.
Они заехали в местечко Пуэрто-Лопес и оттуда, по-над ними дважды пролетал маленький самолет, неожиданно выехали на другую дорогу, которая пролегала в травяном океане Llano
[lano (исп.) — равнина]
, в жужжащей от жары тишине, Они двинулись прямо на юг по той простой причине, что утаили едва заметную и уже начавшую зарастать тропу. Они ехали из Боготы уже сорок с небольшим часов, оставили позади Сан-Карлос-де-Гуароа и поздним утром 9 ноября добрались до Амо-де-Чафураи. Дальше не было никакого жилья, кроме одного-единственного зарегистрированного ранчо ла Оркета, конечный пункт их последнего этапа, который занял у них целый день езды, четырнадцать часов. Далее тропа обрывалась.
Диего пытался пробраться на грузовике чуть дальше, но концов был вынужден капитулировать перед речкой, через нее не было ни одного моста, и, несмотря на все поиски, они не могли отыскать брода. Ну вот, приехали, — сказал совершенно удрученный Xaac.
Лишь звук выключаемого мотора всколыхнул давящую тишину. И еще сильнее Диего вдруг пережил чувство какого-то непоправимого безумия, которое вот-вот должно Сумасшедший, продолжавшийся несколько спуск из Боготы по этой нависшей над пропастью тропе, на которой они двадцать раз должны были погибнуть — в этом спуске не было ничего преднамеренного, он продолжением их бегства из квартала Чапинеро. Потом их стремительный бросок на восток, с каждым часом все больше погружающий их в какой-то обесчеловеченный мир, был почти такой же игрой, как и движение вперед, сантиметр за сантиметром, к самому краю бездонной пропасти…
«Нo теперь мы достигли предела…»
Он влез на подножку, а оттуда даже на крышу кабины. Его не столько поразило то, что он увидел, — лес, галереей тянувшийся над желтой рекой и местами совершенно ее скрывавший, — сколько то, что виделось ему за этим лесом: эта абсолютная, неведомая, зеленая и вязкая необъятность, простирающаяся на сотню тысяч квадратных километров, кишащая насекомыми — от одной мысли об этом дрожь пробегала по коже, — хищными зверями и…
— Послушайте, — неожиданно сказал он с серьезностью, удивившей его самого, — это безумие. Невозможно, чтобы вы всерьез думали продолжать идти в одиночку, вперед…
— Мне хотелось бы попросить вас об одной вещи, — очень мягко сказал Реб. — Грузовик, что мы использовали, я арендовал у человека, который не знал, что я с ним намерен делать. Этот человек — его фамилию и адрес вы найдете в машине — .рискует навлечь на себя неприятности. Помогите ему, попытайтесь убедить полицию в его невиновности. И, пожалуйста, заплатите ему…
На Ребе были лишь сапоги, брюки и полотняная рубашка, пять дней назад купленные в Вильявисенсио. Он вытащил из-за пояса кольт-45 и положил его на капот:
— Возьмите или выбросите. Что касается денег…
Он вытряхнул на капот содержимое холщового мешка, из которого в Боготе достал подсвечники и свечи. Упали две книги, три паспорта и куча банкнот. Он забрал лишь книги, которые снова сунул в мешок, и перекинул его лямку через плечо.
— Ну, спасибо. Я вспомню о вас, Диего.
И в ту же секунду тронулся в путь.
Диего Хаас вспоминает, как он несколько раз кричал, умоляя его вернуться, охваченный необъяснимым отчаянием. Но казалось, что Климрод так его и не услышал. Он вошел прямо в лес, который через мгновенье жадно поглотил его.
Спустя два дня, 13 ноября 1947 года, Диего Хаас, вернувшийся к цивилизации, был арестован солдатами, которые сперва били его по голове, а потом и по другим частям тела. Они доставили Диего в Вильявисенсио, а оттуда в Боготу, где его допросили с достойной всяческих похвал строгостью. Тем не менее он упрямо придерживался своей первой версии: он оказался всего лишь невинной жертвой, которую Безумный, угрожая громадным пистолетом и дюжиной гранат, заставил вести сначала машину, потом грузовик до крайней границы Llano, куда самому ему, разумеется, не пришла бы в голову нелепая мысль забрести. Нет, Безумный не назвал своей фамилии, не сказал, какие причины заставили его заживо сжечь эль сеньора Эриха Штейра, «моего-горячо-любимого-хозяина-чья-гибель-повергает-меня-в-горе. Олле!» (Финальное «олле» он произнес про себя.) От эль сеньора Штейра, когда автогеном разрезали стальную кабину лифта, осталась только довольно омерзительная кучка обгоревшего мяса.
…А как выглядел Безумный?
— Ему примерно лет тридцать пять, — рассказал Диего. — Я бы сказал, что рост у него метр семьдесят, жгуче черные волосы и глаза, шрам на левой щеке. И у него нет первой фаланги на мизинце левой руки. Ой, чуть было не забыл: он хромает. Верно, он говорит по-немецки, но с очень сильным русским акцентом. Нет, нет, не с польским, а с русским. Я все-таки русских знаю! Он не может быть настоящим немцем. Однажды он упомянул при мне Каракас и Венесуэлу. Однако, по моему мнению, он направляется к границе Эквадора, прямо на юг.
Ему еще раз врезали под тем надуманным предлогом будто его описание Безумного не совпадает с тем, что дал сторож, который был вовсе не настоящим сторожем, а случайным статистом. Диего ответил, что ничего удивительного в этом нет, поскольку заменяющий сторожа человек был явно близоруким и алкоголиком (что оказалось правдой).
После этого его Мамита в Буэнос-Айресе, у которой были светские связи и большие средства, смогла вмешаться и объяснить, что ее единственный сын, этот кретин — и к тому же неудачник, — может быть кем угодно, но только не преступником, способным служить пособником польского еврея или русского коммуниста». Выпущенный вскоре на свободу, Диего отыскал владельца грузовика, которого не слишком потревожила полиция (ему выбили всего несколько зубов), вернул ему долг и щедро вознаградил за все злоключения, отдав часть из двенадцати тысяч шестисот двадцати пяти долларов, оставленных Ребом Климродом. Остальное он отдал сторожу-который-не-был-настоящим-сторожем, хотя тот вышел из тюрьмы благодаря Диего, не понеся другого ущерба, кроме трех отрубленных пальцев.
Стимулируемые текстильным промышленником из Медельина, который предлагал вознаграждение в двадцать пять тысяч долларов за поимку Безумного, поиски продолжались четыре недели в зоне протяженностью в тысячу километров, от Нунчии на севере до эквадорской границы на юге.
На востоке же в охоте за Безумным приняли участие две колонны солдат и три самолета. Добрались даже до крайней точки, куда заехал грузовик, и прочесали льяно на десятки километров в округе. Но без излишней надежды: каким бы сумасшедшим он ни был, Безумный не мог быть настолько безумен, чтобы пойти напрямик через лес.
Король тем временем был на пути к своему будущему королевству.